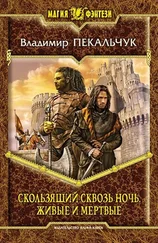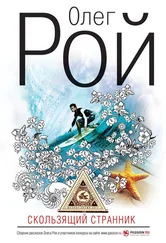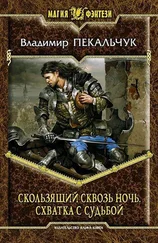Брожу по посмертным спискам случайным выжившим, дезертиром, пославшим к черту святую рать. Небо мое, я твой заплутавший выкидыш, забывший, как положено умирать. Небо мое, мы будем опять хорошими, будем праздновать Рождество и не верить лжи. Небо пожалело нас, недоношенных, и выбросило на Землю пытаться жить. Небо близко так, и, брюхом касаясь башенок, рычит, поливая глупых живых людей, только нас, уже свихнувшихся и безбашенных, не запугать даже прогулками по воде, ведь на трех красавцев четвертый всегда чудовище, мы живем от любви до выстрела в двух шагах, мы сами себя послали в такие дали, что дальше просто некуда убегать.
…И ведь все еще помню, как свет розовел над башнями, взрываясь солнцем в стеклах многоэтажек. С новым утром я б зарылся в дела бумажные, всё стреляющее выставив на продажу, покрывались бы белой пеной сады весенние, и дрожал бы воздух студнем в конце июля… Небо мое, я давно утопился в Сене, и меня там не приняли, выпустили, вернули. И любое яство с привкусом металлическим, и любое лакомство красит огнем карминным…
Небо, ты слышишь? Наш случай уже клинический, время шагает с миром куда-то мимо, случайным взглядом заставляя цепенеть иных, в который раз не успокоившись по сезону, наша тьма маньячит, ставит свои отметины — двойным проколом на крепко уснувшей сонной. На что надеяться, если на вечном бое мы не имеем шанса внезапно и страшно выжить?..
Небо на нас истратило все обоймы, потом отправив рапорт куда-то ниже. Куда нам до нехитрых банальных чаяний… Какой на пороге месяц какого года?.. Небо имеет право хранить молчание — ответ может стоить небу его свободы. Пусть живые верят в вирусы и проклятия, в легенды о нашем лихом комарином рое. Мы просто имеем привычку безудержно звать его, пока оно не вспыхнет и не накроет, и все мы, уже заведомо обреченные, ждем, когда же оно проснется, поднимет веки…
Но небо мое всегда почему-то черное, а последний рассвет отгорел в позапрошлом веке.
«о вампирах либо хорошо, либо ничего» (с)
У него деликатный змеиный нрав, неразборчивый почерк и черный «глок».
Он рефери в сватках добра со злом и чаще всех прочих бывает прав.
Он не терпит капризов и грязных рук, говорит: «Все герои умрут в конце».
У него французский смешной акцент и умение быстро входить в игру.
Не прощает подлостей и измен, говорит, что вся его жизнь — ситком,
Его пули питаются молоком — он его за вредность берет из вен.
Он ходячий траурный декаданс, темнота, спокойствие и контроль.
Но порой в его взгляде такая боль, словно он без гипноза впадает в транс,
Говорит: «Не верь никому всерьез. Нас убили, но не списали в срок.
От меня отвернулся неверный бог, и ангел-предатель покинул пост.
Эту истину не утопить в вине, не вспомнить улыбок своих детей:
Мои дочери рано ушли в метель, но по привычке всё снятся мне».
Он глядит туда, где осенний лес подставляет шкуру под мокрый снег.
Говорит: «Проклятье лежит на всех — не достучавшихся до небес.
В наших венах черный холодный Стикс, нам до последней земной главы
Из бездны таращиться на живых, стирая усмешки с безликих лиц.
И нам больше нечего здесь беречь, некого помнить и хоронить.
Над нами мойра кромсает нить, которая держит дамоклов меч,
Да все напрасно…» И лишь когда он ловит мой удивленный взгляд,
То, больше ни слова не говоря, встает, отрезая мне путь назад.
Он берет мою руку, и быстро, вдруг, прижимает крепко к своей груди…
…Наберите девять-один-один! Или я внезапно сейчас умру,
Или… Тихо. Страшные чудеса открывает он — гордый, немолодой…
Его сердце не бьется в мою ладонь. Я читаю диагноз в его глазах.
Мне чудится, будто бы он дрожит. У меня озноб или паралич.
Он смотрит так, словно болен ВИЧ, в зрачках проносятся этажи —
Бесконечные шахты. Его война не позволяет ему дышать…
Я с трудом отхожу от него на шаг и думаю: «Что же ты, лейтенант?
Нам врут о вас повести и кино… Как тебя угораздило? Сколько лет
Прокаженным холодно на Земле? Вам здесь стыло, голодно и темно:
Чертовщина с гибелью на клыках воет в небо вечное «почему?»…
Вам носить вампирическую чуму в нечеловеческой ДНК
И маяться этим…» Меня трясет. Ведь, выходит, и я для него — еда?
Он смеется так, словно слышит всё. Нет. Не стану спрашивать.
Никогда.
Лохматость солнца исчезла в дымке,
Швырнув на стекла лучей обломки.
Снежинки пляшут в окне лезгинку,
Я собираю головоломку.
Я разбираю на паззлы рифмы,
Крошу до пикселей и молекул
Те сны, что бьются о мыслей рифы
Дробленым тактом ее куплетов.
Бардак в душе и на жестком диске,
Как в сердце — пустошь ночных вокзалов,
Густая горечь в глазах Чеширских,
Улыбка — с грустью и злым оскалом.
В головоломке — тугие строчки,
Необратимость сюжетных рельсов,
И вместо смайлика ставлю точку,
Чтоб после — пальцами по бекспейсу.
…Они приходят, когда не ждешь их,
На шабаш роем летят по ветру,
И леденяще щекочут кожу
Мне терпким запахом сигаретным.
Они твердят, что пора смириться,
Что жизнь распихана по вагонам,
И тот, что тихо в углу ютится,
Сжигает мысли в глазах зеленых.
Другой смеется, жует ириску,
Пленяя бездной своих зрачков,
А та, что с плетью, склонившись низко,
Мне крошит сердце под каблучком…
Оставьте горечь, мир слишком сладок!
Моей загадке — что быль, что небыль,
Вдруг взглядом в спину, между лопаток,
И сердце рвется дугой гипербол.
Ступая тихо на мягких лапах,
Несет в зрачках остроту ироний,
О ноги мягко комочек страха
Мне трется ласковой паранойей…
Пытаюсь гладить по шерсти — нежно,
Хоть руку колет и жжет крапивой,
Что мы не встретимся у кафешки,
Где с шоколадкой две кружки пива…
«Мы никогда» — дождевой водой.
Наверное, я разучился плакать.
Моей загадке не быть живой
В системе ломких двоичных знаков.
Пробило полночь. Не повезло.
Из интернета ушел до срока.
Сквозь пальцы выскользнуло тепло.
Оставил блюдечко у порога.
Продай мне, отче, на пальцах ломких
Кусочек неба и сил немножко…
Я собираю головоломку.
Я приручаю чужую кошку.
Читать дальше