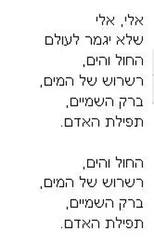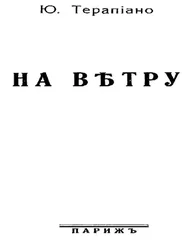и смерть за мной не пришла.
Взглянула в окно — ах, какая мука,
какая сплошная мгла…
Решила — да ладно, ещё подремлю-ка.
И всё проспала.
Нет числа («Как же много людей, как много…»)
Как же много людей, как много,
им фактически нет числа.
Сонно-клавиатурно-безного
роща темная проросла.
Города и машины эти
завлекают чужим умом.
Я вчера не нашёл мечети,
я вчера засыпал с трудом.
Я сегодня проснулся рано,
под весёлый пружинный скрип.
Дописал перевод Корана
на ассемблер и джаваскрипт.
Если верят машины в бога,
надо их посвятить в ислам.
Их так много. Их очень много.
Им фактически нет числа.
Куклы («На вагоне открытый огонь, и…»)
На вагоне открытый огонь, и
очень дымно и жарко в вагоне.
В нём подвижной картошкою — мы.
Мы в печи, на пределе скандала,
всю взаимность у нас раскидало,
развалились матрёшкой умы.
Рвутся прочь деревянные куклы,
пол квадратный становится круглым,
круглый пол превращается в ринг,
начинают на нём куклы биться.
А снаружи — мороз минус тридцать,
ночь, туман, и дрожат фонари.
Прочь поток увлекает рассудок,
выливаются души-сосуды,
голова так чиста и пуста!
Беспределен великий поток, но,
наконец, выбиваются окна.
И летят куклы градом с моста.
Мы убиваем культуру («Испуганная культ ура…»)
Испуганная культура
возле стены кирпичной.
Мы убиваем культуру.
Падает вечный снег.
«Цельсь», — говорит командир.
Мы поднимаем ружья.
Так и стоим четверть века,
ждём команды «огонь».
Ах, какая жара («Ах, какая сегодня случилась жара…»)
Ах, какая сегодня случилась жара,
кран подъёмный ссутулился, словно жираф,
зебра тянется в тень светофора.
Ах, какая жара — даже больно зевать,
и ни шляпам, ни зонтикам, ни головам
перед этой жарой нету форы.
Я полцарства отдал бы сразу
за полкружки холодного кваса.
Перекрёсток-сосед от машин чуть просел,
курят выхлоп из труб на сплошной полосе,
в общей давке, железные кони.
Чтобы нежные чувства терпеньем почтить,
я стою, ожидая тебя, и почти
оплываю свечой на бетоне.
Таю, таю, как воск; по воску
солнце жаркое едет повозкой.
Честно («Честно заходит бомбардировщик…»)
Честно заходит бомбардировщик
прямо на нас, на цель.
Кто-то молчит, кто-то тихо ропщет,
ужас в каждом лице.
Кто-то кричит: «нас убьют!» и сразу
лопается струна —
страх перед пулями, током, газом
разбросан по сторонам.
Под пулемётных огней трещотки,
под бесконечный стон,
люди безумно грызут решетки,
лезут через кордон,
в клочья рвут глотки и в клочья руки —
только ты оглянись:
там, наверху, открывают люки.
Бомба
уходит
вниз.
Падает бомба, рыча, на гетто,
острой, крутой дугой.
Полно, мой друг, мы бессмертны! Это
просто системный сбой.
Пустыня («Глина и песок, увы, не дружат…»)
Глина и песок, увы, не дружат —
хрупкие дома пустыня рушит.
Глиняные стены послабее
колкого дыханья суховея.
Черепками делаются стены,
их песком заносит постепенно.
Через сотню лет не отыскать
ничего,
кроме
песка.
Что такое сила, воля, слава,
для чего великие дела вам?
Общество подобно суховею,
только поумнее, погрубее.
Общество легко ломает глину —
гениев, титанов, исполинов.
И в пустыне этой не сыскать
ничего,
кроме
песка.
Перед расстрелом («Вот выводят белым на белом…»)
Вот выводят белым на белом
человека, что мир покорил.
Говорят ему перед расстрелом:
«Покури».
Милосердное дело это,
коль уже на расстрел поведут,
на последнюю сигарету —
пять минут.
Он же, взяв сигарету, скомкав,
неуместным теплом светясь,
начинает смеяться звонко,
как дитя;
пряча в хитром лице полмира,
что поймал его взгляда крюк,
говорит своим конвоирам:
«Не курю!»
Из колодца («Пустое в колодце застыло ведро…»)
Пустое в колодце застыло ведро:
Река обмелела — и высох колодец.
От жажды, туза в межсезонной колоде,
Слипаются губы иссушенных ртов,
Трещит кожа щёк у рабочих-кротов.
И сверху, в отверстии, словно в окне,
Мираж чёрной тучи смущает прохожих,
Её долго ждали. Она не поможет.
Читать дальше