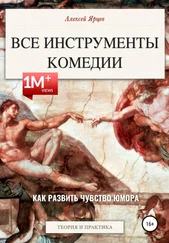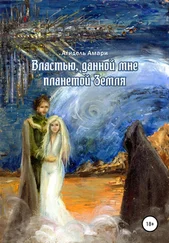В зиму 1917/18 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили; время было трудное, и приходили все — от Вячеслава Иванова до Маяковского [58] Эренбург И. Указ. соч. Т. 6. С. 464 (именно у Цетлиных Эренбург познакомился с В. Хлебниковым, см.: Там же. Т. 3. С. 517–518).
.
Гостями Цетлиных были П. Антокольский, Ю. Балтрушайтис, К. Бальмонт, А. Белый, Я. Блюмкин, Д. Бурлюк, М. Гершензон, С. Есенин, Вяч. Иванов, В. Инбер, В. Каменский, С. Парнок, Б. Пастернак, А. Соболь, индусский поэт Сура-Варди, А. Толстой, В. Хлебников, В. Ходасевич, М. Цветаева, И. Эренбург и др. Вечер в доме Цетлиных, состоявшийся 28 января 1918 г., на котором В. Маяковский читал поэму «Человек», описан в воспоминаниях Д. Бурлюка [59] См.: Катанян В. Маяковский: Литературная хроника. Изд. 3-е, доп., М.: Гослитиздат, 1956. С. 99–100.
, в «Охранной грамоте» Пастернака (Ч. 3. Гл. 13), в воспоминаниях П. Антокольского о В. Маяковском и И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» [60] Антокольский П. Две встречи // Маяковский в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1963, С. 148–150.
.
Осенью 1918 г. вместе с А.Н. Толстым и Н.В. Крандиевской Цетлины бежали из большевистской Москвы на юг, в Одессу [61] Эренбург И. Указ. соч. Т. 7. С. 45.
(Цетлин посвятил Н.В. Крандиевской стихотворение «Мы в пуховом уюте гнезд…», вошедшее в его книгу стихов «Прозрачные тени. Образы» (С. 12), а А. Толстой пародическими красками нарисовал портрет Цетлина в повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» (полностью 1925)) [62] См. об этом в кн.: Крандиевская-Толстая Н. Воспоминания. Л.: Лениздат, 1977. С. 138. Толстого и Цетлина не стало в одном и том же 1945 г., однако Цетлин, ушедший из жизни на несколько месяцев позднее (10 ноября), успел еще написать некролог Толстого, умершего 23 февраля, см.: Новый журнал. 1945. № 10. С. 338–340 (отметим попутно рецензию Цетлина на 2-й том берлинского издания романа А. Толстого «Петр I» в 1930 г., см.: Современные записки. 1930. № 44. С. 521–524).
. Забегая вперед, скажем, что впоследствии обе семьи, став эмигрантами, нашли приют в Париже, где их отношения резко ухудшились [63] О непростых отношениях, возникших между Цетлиными и Толстыми в Париже, см. в письме Н. В. Крандиевской-Толстой к М.С. Цетлиной от 3 ноября 1922 г. (Марков Анатолий. «Я люблю усталый шелест старых писем, дальних слов…» // Библиофилы России: Альманах. Т. 2. М.: Любимая Москва, 2005. С. 180–183).
. Бывшее приятельство исчезло, и в обращении А. Толстого к «богачам Цетлиным» появилась некоторая подчеркнутая бесцеремонность. Тэффи рассказывала следующую занятную историю о том, как однажды А. Толстой попросил у Марии Самойловны на две недели пишущую машинку, которую так и не вернул.
Мария Самойловна, — вспоминала Тэффи, — человек очень деликатный, прождала больше года, наконец, решилась спросить.
— Не можете ли вы вернуть мне пишущую машинку? Она мне сейчас очень нужна.
Толстой деловито нахмурился.
— Какую такую машинку?
— Да ту, которую вы у меня взяли.
— Ничего не понимаю. Почему я должен вернуть вам машинку, на которой я пишу?
Марья Самойловна немножко растерялась.
— Дело в том, что она мне сейчас очень нужна. Это ведь моя машинка.
— Ваша? Почему она ваша? — строго спросил Толстой. — Потому что вы заплатили за нее деньги, так вы считаете, что она ваша? К сожалению, не могу уступить вашему капризу. Сейчас она мне самому нужна.
Повернулся и с достоинством вышел.
И никто не возмущался — уж очень история вышла забавная: «Только Алешка и может такие штучки выкидывать» [64] Тэффи. Алексей Толстой // Новое русское слово. 1948. 7 ноября; включено в ее кн.: Смешное в печальном. М.: Советский писатель, 1992. С. 491.
.
Вернувшись в советскую Россию и отрабатывая лояльное отношение к новой власти, А. Толстой в одной из своих статей вспоминал о том, как «некий “меценат” Цейтлин (Амари), сын крупного чаевладельца», поддерживавший — хотя скупо и по-иезуитски — эмигрантских писателей [65] «…“меценат”, - писал вчерашний приятель Цетлиных, а ныне “красный граф А.Н. Толстой, — чтобы отвалить 25 франков, много раз передумает: “а может, 20 фр<���анков> довольно”…» (А.Н. Толстой о парижской эмиграции // Красная газета (вечерний выпуск). 1924. № 250 (640). 1 ноября. С. 3).
, рассказывал ему в 1920 г., «что у него вместе с отцом в деле — свыше 150 миллионов франков» [66] Там же.
.
Все это, однако, случится несколько позднее, а пока, гонимые революцией и Гражданской войной на юг, Цетлины попали в Одессу, где прожили до начала апреля 1919 г. В это время они тесно общались с Иваном Алексеевичем и Верой Николаевной Буниными, так же как и с целым рядом других русских писателей и деятелей культуры, оказавшихся в Одессе и входивших в литературный кружок «Среда». Наряду с А. Толстым, Л. Гроссманом, В. Инбер, Н. Крандиевской, Тэффи, А. Биском и А. Кипеном подпись Цетлина стоит под составленным М. Волошиным письмом в редакцию «Одесского листка» в защиту Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (март 1918) [67] Е.Ю. Кузьминой-Караваевой было предъявлено обвинение в том, что, будучи избранной в феврале 1918 г. товарищем городского головы Анапы, она не покинула эту должность после прихода в город большевиков. Заступничество за поэтессу возымело силу, и она отделалась легким наказанием.
. Вместе с А.Н. Толстым Цетлин посетил несколько заседаний одесского Литературно-Артистического Общества. По крайней они точно были на том из них, где Толстой, по воспоминаниям Олеши, в пух и в прах разнес его стихотворение «Пиковая дама» написанное по мотивам повести Пушкина [68] См. в воспоминаниях Ю. Олеши «Встречи с Алексеем Толстым» в кн.: Олеша Ю. Избранные сочинения. М.: Гослитиздат, 1956. С. 393–396; ср.: Ершов П. Одесская литературная колыбель (Отрывки из воспоминаний) // Опыты. 1957. № 8. С. 95–96.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
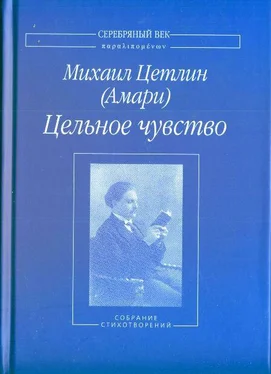
![Джейн Остен - Чувство и чувствительность [Разум и чувство]](/books/5945/dzhejn-osten-chuvstvo-i-chuvstvitelnost-razum-i-chu-thumb.webp)

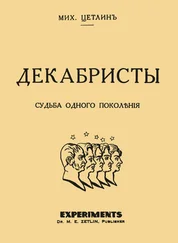
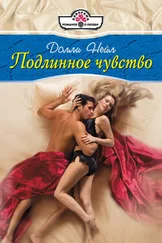
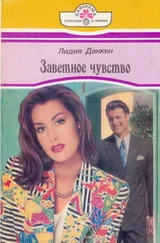
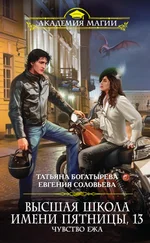
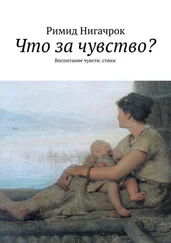

![Агидель Амари - Властью, данной мне планетой Земля [publisher - SelfPub]](/books/397511/agidel-amari-vlastyu-dannoj-mne-planetoj-zemlya-thumb.webp)