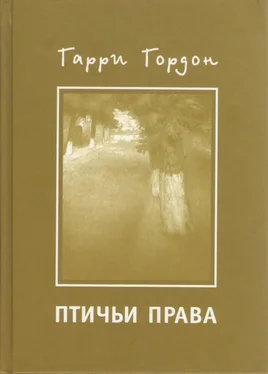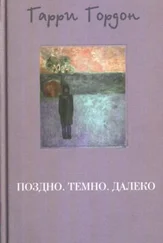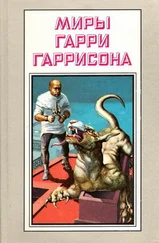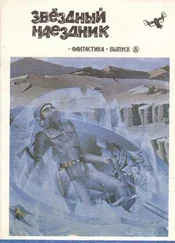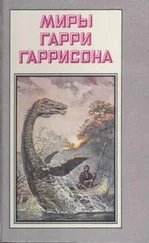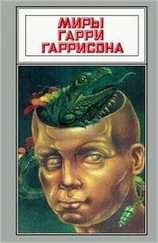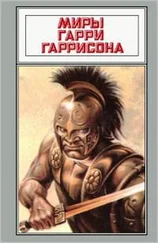О чем тогда синели иммортели
На выгоревшей старческой земле?
О простоте, бессмертье, красоте ли,
О чем нарцисс над лужицей сомлел,
О чем все лето птицы просвистели,
И парус одинокий пробелел?
Волна, качаясь, на берег выходит,
Секунду постоит, назад уходит.
И, наконец, в один прекрасный день
Как на голову снег, сошли метели.
Освободившейся от тяжести воде
Все дыры предоставлены и щели,
И в снежной карусели кое-где
Мелькали легкие одежды Ботичелли.
Вот солнце бесполезное взошло,
Немного постояло и ушло.
Вода в свободном плавала полете,
Все стало на земле одно из двух,
Все стало на земле в конечном счете,
Когда из тела вылупился дух,
И только белизна была в почете,
И пресный привкус свежести во рту.
Была зима, и все, что прежде было,
Осунулось, растаяло и сплыло.
Во что бы то ни стало — красота:
Осенний сон в седых аллеях парка,
Во что было то ни стало — красота:
Московский Кремль, собор Святого Марка,
Во что бы то ни стало — красота:
Загаженные клетки зоопарка,
Прекрасен Андерсен и Джордж Гордон хромой,
Во что бы то ни стало, Боже мой…
Скопилось в небе множество дыханий,
Снег придавило влажное тепло,
Кипело море цинковой лоханью,
И мраморное серое крыло
Кладбищенского ангела маханьем
Потерянную птицу увлекло.
Все набухало, тяжелело, мокло,
Выл пароход, оттаивали стекла.
Сырая мышь отчаянье плела,
Железный запах долетал из порта,
То вдруг казалось, мама умерла,
И не было ни Бога и ни черта,
То на помойке расцвела зола,
То лопнула алхимика реторта.
Ночь мокрую отбрасывала тень
На серый день, дырявый, как плетень.
Холодная и чистая Мадонна
Под действием сомненья и тепла
В тоске переродилась в Купидона.
Пронзительная взвизгнула стрела,
Покачивая домик из картона,
Вода живая в гору потекла.
Воскресший Бог был так весом и плотен,
Что иногда казался просто плотью.
Посередине моря островок.
Рай в шалаше и тень цветного зонта,
И каждый румб изучен назубок
По замкнутому кругу горизонта.
Шалаш вначале, после теремок,
И благоденствие, и крепкий сон там.
Иной раз чайка близко подойдет,
В глаза посмотрит, снова отойдет.
Так вот он, перелетный центр мира,
Живой, неуловимый, словно ртуть,
Находка для любого в мире тира
С горько-соленой выходкой во рту,
В полете из прозрачного пунктира
Крылом следы сметает на лету,
Над белой пеной кружится, зевая,
В иголку нитку иногда вдевая.
Осенняя прогулка тяжела,
Осенние фонтаны ослабели,
Прямее стали стороны угла,
Прохладней стали простыни постели,
Пристроившись на краешке стола,
Господь гостит, бывает, по неделе,
Тетрадку легким жестом развернет,
Поморщится, нахмурится, вернет.
А если б никогда не ошибался,
Я тоже был бы бесконечно прав,
Блаженно улыбаясь, ошивался
В тени успокоительных дубрав,
И допевал кусок чужого вальса,
Уютно в плечи голову вобрав.
Вот так увидишь любящие лица,
И хочется сквозь землю провалиться.
Когда-то где-то допустил просчет.
(О чем тогда синели иммортели?)
Уж не тогда ль, когда я был не в счет?
(Прохладней стали простыни постели.)
А может быть, меня не то влечет?
(Господь гостит, бывает, по неделе.)
Осенний лед крошится под звездой,
И темной заливается водой.
О, тяжесть понимающего взгляда,
Серьезного, как смертный приговор.
Казалось бы, не так уж много надо:
Да не найдется в мире никого,
Кто к таинству священного обряда
Притянет молчаливый разговор,
Или поддержку в трудные минуты,
Когда у добродетели в плену ты.
Пустеет поприще. Холодный воздух густ.
Я праздную еще одну победу.
И проплывает ложка мимо уст,
Та самая, что хороша к обеду.
Снег выпадет, — со всеми помирюсь,
И, может быть, куда-нибудь поеду.
И светится под дверью полоса,
И режет утомленные глаза.
I
Только головы уроним,
Взявшись за руки, как встарь,
Прилетает посторонний,
Одиночка и кустарь.
И, полоской лунной пыли
Воздух нежно теребя,
Нас безжалостно распилит
На меня и на тебя.
II
Он угодил не в глаз, а в бровь,
И с музыкой — в полет.
И вот летает моя кровь,
Летает и поет.
Присядет на твою ладонь,
И взмоет, укусив,
В бордовое вплетая
До Ликующее Си.
Читать дальше