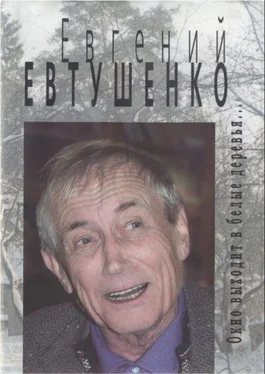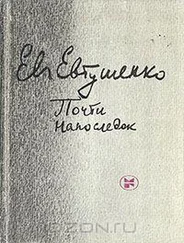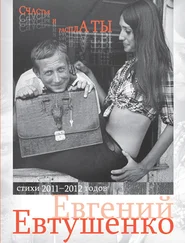«Как у мово миленочка
не с кралей городской —
свидание с маевочкой
над Талкою-рекой.
Рабочий праздник празднуя,
миленка провожу.
Сниму косынку красную,
к березе привяжу.
Пока сыночек-сыночка
на свет не урожден,
побольше ты,
косыночка,
нам нарожай знамен!»
Хочу я на маевку,
маевку,
маевку,
за пазуху листовку
запрятать, как птенца,
завидевши винтовку, сдуть божию коровку
с ладони заскорузлой —
подальше от свинца.
Хочу на речку Талку,
на Талку,
на Талку,
пускай потом придется —
зажатому вражьем,
попасть в такую свалку,
где смерть ведет считалку
то пулей, то нагайкой,
то шкворнем, то ножом.
Я так хочу на стачку,
на стачку,
на стачку,
в могучую раскачку
рабочих плеч и спин,
и там начать подначку:
«Доносчика на тачку!» —
пущай из ситца жвачку
жует он, сукин сын.
Митинг,
митинг,
неси меня, неси!
Насквозь продинамитен
рабочий на Руси.
Но когда взорвется
этот динамит?
Как он отзовется?
Кого он разгромит?
До которой даты
видишь ты вперед,
девятьсот пятый,
распятый
год?
Федор Афанасьев,
по кличке «Отец»,
шапку бросил наземь,
будто не жилец:
«Я родился во селе
по прозванью Язвищи.
Набродился по земле.
Видел язвы,
грязь еще.
Лишь тому сейчас неясно,
у кого бельмастый глаз,
где заглавнейшая язва,
от которой — столько язв.
Я умру,
и ты умрешь.
Будет в поле та же рожь,
а у власти,
что же,
те же будут рожи?»
Встал Андрюша Бубнов
девятнадцати годков.
Голос его
будто
соткан из гудков:
«Есть на Руси сластены,
но есть еще властены
и любят —
просто страсть! —
сласть хитрозадых —
власть».
И может, Паша Постышев
впервые крикнул это,
сам вздрогнувший,
но поздно уж:
«Вся власть Советам!»
А Сарментова Матрена
так и врезала ядрено,
аж летели с блузки пуговки,
аж в распыл —
вороны-пуганки:
«Ты ручищей не карябай
мои ткацкие мослы.
Обзывают меня бабой,
а я женщина,
козлы!
Рукосуи водку дуют,
продают народ спьяна.
Словно бабу, Русь мордуют,
а ведь женщина она!»
Авенир Ноздрин был гр а вер,
а еще стихи творил.
Он листок в руке расправил,
и листок заговорил.
Стих,
дышавший так неровно,
в рифмы не был приодет,
но «свобода»
и «народа» —
лучше рифмы в мире нет!
«В председатели Совета
кого выберем,
народ?
А давайте-ка поэта —
он, хотя и пьет,
не врет».
Так народ,
ладонью стукнув,
порешил с далеких лет:
«На Руси поэт —
заступник.
Не заступник —
не поэт».
Жаль, что не был сразу сослан ты,
пролетарский наш пиит —
ведь тебя
твоя же собственная
власть советская сгноит.
Слава,
что такое слава?
Это горький,
тяжкий мед.
Славен тот,
кто бросил слово
в обессловленный народ!
Ситец, ситец —
в цветочках такая невинность!
Ситец дышит,
как будто поют соловьи.
А на чем
этот ситец с цветочками вырос?
На рабочей крови,
на рабочей крови…
Ситец, ситец,
ты чудо — а может быть, ужас?
Старый ткач
не поднимется из-под травы,
но империи падают,
поскользнувшись
на рабочей крови,
на рабочей крови…
6
Когда, придя в солдатский лазарет,
императрица корпию щипала
средь белокрылых русских лизавет, —
ее слеза на гной бинтов упала,
а Николай Второй вздохнул в ответ
и понял, что империя пропала.
«Георгия» зажал в ладони он
над койкою в следах кровавой рвоты,
где белой куклой в доме ледяном
еще дышало и стонало что-то.
Чернели сквозь бинты провалы глаз.
Был рот подернут судорожной пеной.
«Скажи, ты, братец, ранен в первый раз?»
«Нет, во второй…»
«А где же, братец, в первый?»
Солдат, наверно, не узнал царя
и вовсе без насмешливости горькой,
«Девятого… —
отхаркнул, —
января…»—
и вздрогнул царь
и выронил «Георгий».
В народе был Кровавым прозван царь,
но в нем была какая-то бескровность.
Казалось, хоть в лицо его ударь —
под безразличьем чувствованья скроет.
Он безразлично обожал жену,
ее к святому старцу не ревнуя.
Он безразлично проиграл войну
и в полусне проигрывал вторую.
И по сравненью с ним пойти на риск
готов был даже при нуле талантов
желто-седой поджарый Фредерикс,
роняя в кофий перхоть с аксельбантов.
Старался царь,
не будучи жесток,
в кровопусканьях соблюдать приличья,
но царского падения исток —
палаческая сущность безразличья.
Неужто надо целых триста лет,
чтоб сила власти сделалась бессильем,
чтобы, прогнивший строй сводя на нет,
гудками забастовки забасили?
Власть одряхлела.
Шел такой разброд,
что дрябнущему телу государства
не помогали, впихнутые в рот,
Бадмаева тибетские лекарства.
Все выродилось,
все сплошной бардак,
все разложилось,
все проворовалось.
Арестовать Россию всю?
Но как?
В полицию
и то проникла вялость.
Империи тогда конец,
когда
сложились все ходынки и цусимы
в такую концентрацию стыда,
что этот стыд сносить невыносимо.
И между Малой Вишерой и Дном,
встречая только дерзость,
а не почесть,
как пес ослепший,
ищущий свой дом,
метался одинокий царский поезд.
Царь слышал мат и выстрелы в дыму,
рукой вцепившись в желтый шелк салонный,
и песню, незнакомую ему:
«Вставай, проклятьем заклейменный…»
Ему шептали на ухо совет —
не попросить ли Англию о займе,
а где-то кисти репинской портрет
штыки сшибали в белом думском зале.
Припомнилось Мещерскому письмо,
где царь,
упавший с гондолы под башней,
Венецию сравнил весьма умно
для отрочества —
с женщиною падшей.
«Россия тоже пала», —
в полусне
царь прошептал,
как при смерти зевая.
Все те, кто упадет в любой стране,
страну за это падшей называют.
Царь был каким-то мертвым,
жестяным.
В отсутствующем взгляде —
ни живинки,
когда, как дар,
Гучкову с Шульгиным
он вынес отреченье на машинке.
Бесчувствием царя был оскорблен
дух монархистов, неутешно мрачных:
«Россию сдал он, словно эскадрон
безвольный офицерик-неудачник».
Читать дальше