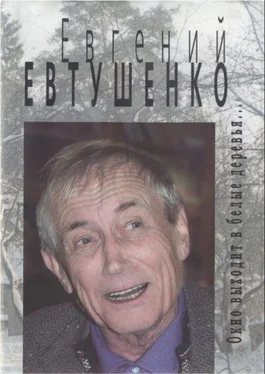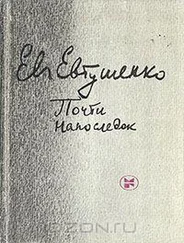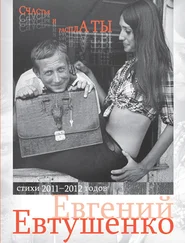Гостья вокруг оглянулась, художника взглядом ища,
но он испарился, как будто все эти картины
себя написали сами.
Лишь на топчане самодельном,
который служил и столом и кроватью хозяину,
лежала записка:
«Вернусь только к вечеру. Будьте как дома», —
а рядом покачивались, как живые,
два, словно изваянных из вчерашнего снега, яйца.
Она разбила их так осторожно,
как будто боялась им сделать больно,
яичницу сделала, кофе сварила,
потом взяла отдыхавшую кисть
и, обмакнув ее в краску, стала
водить по нетронутому холсту,
и это было похоже на освобожденье слезами,
но только слезами разного цвета.
Она рисовала, конечно, в школе,
вернее, срисовывала, не рисовала —
ну, скажем, яблоко или кувшин.
Теперь ей совсем иного хотелось:
то срисовать, что внутри ее было,
и то, чего не было, срисовать
с воздуха, пахнувшего свирелью.
Что-то рождалось сквозь слезы красок:
и это было ее лицо,
и не ее лицо это было,
а то лицо, что внутри:
лицо лица.
Она покинула этот подвал
прежде, чем появился хозяин,
взяла такси и вернулась домой
сквозь город, бессмысленно растоптавший
бессмысленно выпавший снег.
Муж кинулся к ней озверело.
Она
в сторону мужа сделала жест:
не презрительно-гневный,
но властно его отвергающий, как реальность,
которая, если подумать,
реальна лишь при подчиненье,
и муж попятился, чувствуя в страхе,
что это — другая, ему незнакомая женщина.
Она направилась в детскую, поцеловала
три черных головки, пахнущих мылом и сном,
и на вопрос, где она пропадала так долго,
ответила:
«Слушала в поле свирель».
На следующее утро
она поехала в магазин на фургонной «тойоте»
и выбрала множество красок:
кадмий — лиловый, желтый, пурпурный,
красный светлый и красный темный;
охры — приглушенную и золотистую,
коричневый марс и марс оранжевый;
белила: свинцовые, цинковые, титановые;
зеленые: изумрудно-зеленую,
ярко-зеленую «Поль Веронезе»;
коричневые: «Ван-Дейк», натуральную умбру,
архангельскую коричневую,
сизо-коричневую «Капут мортуум»;
черные: персиковую черную,
жженую кость, слоновую кость,
виноградную черную
(кстати, действительно сделанную
из виноградных косточек);
а также ультрамарин,
берлинскую лазурь и турецкую синюю;
масло: ореховое и льняное;
лаки: мастиксовый и фисташковый;
кисти: щетинные, беличьи, барсучьи и колонковые;
еще мастихины,
шпотеки различных размеров и твердости,
цветные карандаши, фломастеры,
мольберты, этюдники и подрамники,
холсты грунтованные и негрунтованные,
бумагу в рулонах, ватманские листы,
а еще молотки и клеши,
и большие и маленькие гвозди
для разных целей — за исключеньем вбиванья
в ладони ближних.
Восстание делалось вооруженным.
Она спокойно потребовала у мужа
освободить от цветов немедленно
стеклянную зимнюю оранжерею,
на что он слегка покачал головой,
но сделал испуганно, как попросила
об этом рехнувшаяся жена.
Это было первое помещение, взятое при восстанье.
И стала она рисовать, допуская
в штаб восстания только детей —
для начала лишь собственных.
И они, пораженные стольким количеством
чистой бумаги и карандашей,
к восстанию подключились,
изображая с веселым ехидством папу,
похожего на осьминога,
и осьминога, который похож был на папу.
Она не пошла по прямому пути
атаки на статус-кво,
отдав этот путь по-граждански настроенным детям.
С уродством боролась она не его прямым обличеньем,
а самой красотой смешения красок, —
ведь, может быть, главный противник уродства
сам дух человеческий в чистом виде,
а не бездуховные негодованья
против засилья бездуховности.
Она писала коров с Хоккайдо
с забитыми глазами японских женщин.
Она писала японских женщин
с забитыми глазами коров с Хоккайдо.
Муж взял ее в Африку, предполагая
развеять ее внезапную блажь.
Они поехали по классу «люкс»
и даже с лицензией на отстрел слона,
но ее тянуло совсем не в джунгли
с построенными вдоль троп туалетами,
а в покосившиеся хижины
из листьев пальм и стволов бамбука,
где женщины деревянными пестиками
толкли бататы, их превращая в муку.
И она писала африканских женщин
с забитыми глазами японских женщин.
И она писала японских женщин
с забитыми глазами африканских женщин.
И однажды пришли Знатоки в стеклянную оранжерею.
Это были не те знатоки,
которые крутятся на вернисажах,
чтобы одной рукой подержать запотевший «дайкири»,
а свободной рукой —
вернее, кажущейся свободной рукой —
поздороваться величаво
с талантами мира сего
и угодливо — с более высшими — сильными мира сего,
даже не догадываясь,
что совершают ошибку в расчетах,
ибо главнейшая сила в мире —
это талант, а не сила сама по себе.
Два Знатока-японца, пришедшие в оранжерею,
были два старика вообще не от мира сего,
а послы от великого мира великого Хокусая,
Рублева, Босха, Эль Греко,
говорящие даже о Пабло Пикассо
как о способном, но все-таки шалуне.
В этих двух стариках было детское что-то,
и, быть может, поэтому
немолодая женщина, но молодая художница
им разрешила войти в мастерскую, куда
были допущены ранее только дети.
Читать дальше