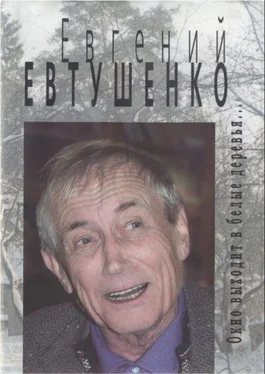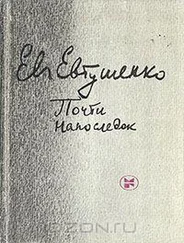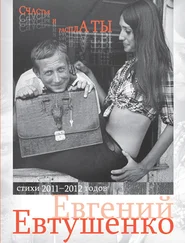За короткое время в стеклянной оранжерее
образовалось нечто-вроде подпольной организации,
боровшейся если не за сверженье мужчин,
то хотя бы за подобие демократии.
Некоторые женщины появлялись
лишь на некоторое время,
чтобы кокетливо пригрозить мужьям искусством,
а потом дезертировать из искусства
в сомнительно мирное лоно семьи.
Но некоторые оставались надолго
и создали нечто вроде Исполнительного комитета.
Как и во всяком комитете,
появились подсиживанья, интриги,
уже ничего общего не имевшие
с чистотой первоначальной идеи,
и художница иногда тяжело вздыхала,
что она ввязалась во все это дело,
где искусство неотвратимо
начало пахнуть политикой, тем более экстремистской.
Освобождение женщин от мужчин?
Такая программа была односторонней:
ведь мужчины и сами так несвободны,
ну хотя бы от начальников на собственной службе
и часто — хотя в этом горько признаться —
от императорствующих жен.
Совместное освобождение мужчин и женщин! —
такую программу она принимала,
и, думая о благородной конечной цели,
быть может, вовеки недостижимой
и потому еще более благородной,
она не решалась
закрыть перед новыми легионами женщин
хрупкие двери революционного штаба,
то есть все той же оранжереи.
Оранжерея была раздираема противоречиями,
ибо отстаиванье кем-нибудь собственного стиля
его противницы выдавали за измену
революционной идеологии.
Здесь были
реалисточки, сюрреалисточки, абстракционисточки,
попартовки, опартовки,
и каждое направление требовало,
чтобы только оно считалось ведущим.
Художница их, как могла, примиряла,
используя политику кнута и пряника,
но они все равно расковыривали мастихином
картины друг друга,
а скипидаром, который был предназначен
для окончательной отделки шедевров,
непримиримо плескали друг другу в лицо.
К тому же, несмотря на декларируемую
ненависть к мужскому полу,
когда в оранжерее появлялся один из мужчин,
они прихорашивались незаметно,
друг другу готовые горло перекусить.
Но, однако, при всех перечисленных недостатках
это было восстание,
а какое восстание
обходилось когда-нибудь без жертв и других издержек?
И художница, высохшая в борьбе,
продолжала не только писать картину,
но и стоять во главе восстанья,
которое было теперь невозможно покинуть,
ибо без мудрого руководства
оно могло превратиться в восстание против друг друга.
И художница мужественно возглавляла восстанье
в осознании собственных многих ошибок,
но все-таки собственной правоты
и правоты восстания, как такового,
потому что жизнь — восстание против смерти,
а искусство — восстание против жизни,
если жизнь становится слишком похожей на смерть.
…Но иногда, если снег за окном появлялся,
художнице снова хотелось к снегу
от всех собраний и голосований,
и она вспоминала, вздохнув с облегченьем,
что где-то есть грязный подвал,
а в подвале художник,
и в крепких седых руках исцеляющая свирель.
1974 Токио — Москва
С кровью из клюва,
тепел и липок,
шеей мотая по краю ведра,
в лодке качается гусь,
будто слиток
чуть черноватого серебра.
Двое летели они вдоль Вилюя.
Первый уложен был влет,
а другой,
низко летя,
головою рискуя,
кружит над лодкой,
кричит над тайгой:
«Сизый мои брат,
появились мы в мире,
громко свою скорлупу проломя,
но по утрам
тебя первым кормили
мать и отец,
а могли бы — меня.
Сизый мой брат,
ты был чуточку синий,
небо похожестью дерзкой дразня.
Я был темней,
и любили гусыни
больше — тебя,
а могли бы — меня.
Сизый мой брат,
возвращаться не труся,
мы улетали с тобой за моря,
но обступали заморские гуси
первым — тебя,
а могли бы — меня.
Сизый мой брат,
мы и биты и гнуты,
вместе нас ливни хлестали хлестьмя,
только сходила вода почему-то
легче с тебя,
а могла бы — с меня.
Сизый мой брат,
истрепали мы перья.
Порознь съедят нас двоих у огня
не потому ль,
что стремленье быть первым
ело тебя,
пожирало меня?
Сизый мои брат,
мы клевались полжизни,
братства, и крыльев, и душ не ценя.
Разве нельзя было нам положиться:
мне — на тебя,
а тебе — на меня?
Сизый мой брат,
я прошу хоть дробины,
зависть мою запоздало кляня,
но в наказанье мне люди убили
первым — тебя, а могли бы —
меня…»
3-4 июня 1974 Коктебель
После этого случая я перестал охотиться. Главный редактор журнала Октябрь А. Ананьев снял это стихотворение из номера, заподозрив, что оно посвящено Александру Исаевичу Солженицыну.
Читать дальше