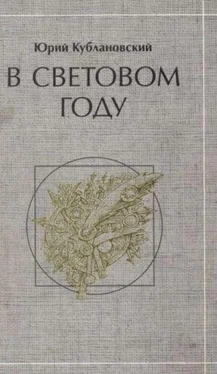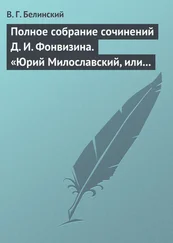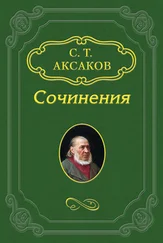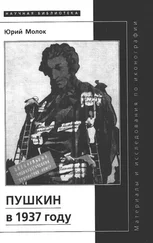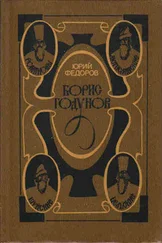…Чем листья зыбистей, слоистей
и вовсе занесли крыльцо,
тем интенсивней, золотистей
становится твое лицо.
Хоть на запястье бледен все же,
когда ты в куцем свитерке,
со свастикой немного схожий
едва заметный след пирке.
И нестеровская с цветными
вкраплениями серизна
навек с родными
возвышенностями и иными
пространствами сопряжена.
…Когда в приделе полутемном
вдруг поднял батюшка седой
казавшееся неподъемным
Евангелье над головой,
мне вдруг припомнился витии
ядоточивого навет:
заемный, мол, из Византии
Фаворский ваш и горний свет.
Пока, однако, клен и ясень
пылают тут со всех сторон
в соседстве сосен,
источник ясен
откуда он.
9. X. 2002
Не мни меня своим:
в пенатах обветшалых
я лишь сезонный дым
над кучей листьев палых.
И пристрастясь стучать
по клавишам на даче,
я стал все меньше спать,
а бодрствовать тем паче.
Так разом стар и мал
о том, что сердцу ближе,
когда-то тосковал
Иван Шмелев в Париже.
И слушая гудки
пежо на всех развилках,
он видел ноготки
и астры на могилках…
Давно земли чужой
я вдосталь нахлебался.
Один пришел домой
и здешним рощам сдался.
Я не из тех лисиц,
что тут метут хвостами.
А ты поверх границ
одна из редких птиц,
зимующая с нами.
Верней, сегодня я
не просто нота лада,
а часть небытия,
костра и листопада.
И долог был мой путь,
и краток неизбывно сюда —
к тебе на грудь,
дышавшую прерывно.
В своем же воске утопая,
агонизирует огарок,
чей острый язычок, мигая,
то тускл, а то чрезмерно ярок.
Под водный шелест, будто бобик,
то спишь, то зенки даром лупишь,
то астр у бабки синий снопик
за несколько десяток купишь.
В родных широтах, жив курилка,
то о подружке грежу, каюсь,
то болью в области затылка
с отдачей в позвоночник маюсь.
Упертый в зыбь в оконной раме,
я лишь одной цезуре предан.
Я предан старшими друзьями,
но путь мне прежний заповедан.
Не дожидаясь передышки,
вновь ухожу в наряд бессонный.
Вот так снимает со сберкнижки
старуха вклад свой похоронный.
Судьба дозволила зажиться,
хоть я бирюк, а не пиарщик.
Вот так решается зашиться
какой-нибудь пропащий сварщик…
Каждый, кто видел Париж,
помнит, наверное, про
полиграфию афиш
в сводчатом старом метро.
Всюду грустила Катрин
и ухмылялся Жерар.
Тоже и я господин
был, навещающий бар.
Схожих с тобою точь-в-точь
нынешней — много тогда
от Ярузельского прочь
полек бежало сюда.
Катастрофически тут
быстро дурнели они.
В общем, мемориев ждут
те баснословные дни.
…Вновь сквозь стекло стеарин
манит из тусклых глубин
ужинать; я уже стар.
Та же повсюду Катрин.
Тот же повсюду Жерар.
Но, тяжела налегке,
жизнь ощущается как
ростовщиком в кулаке
цепко зажатый медяк.
24. XI. 2002
Уж сыплет поднебесье мглистое
снежок на наши палестины,
но в рощи втерто золотистое
упорно, как раствор в руины.
Еще речная зыбь ребристая
струится между берегами
и палых листьев толщь слоистая
чуть-чуть пружинит под ногами.
Кто прожил жизнь неукоснительно
командующего парадом,
тому, возможно, извинительно
всплакнуть на склоне дней покатом.
А я прощаюсь необученным
и остаюсь, туша окурок,
одним из так и не раскрученных
послевоенных коль и юрок.
Тут прошлым станет настоящее,
как только матерком украсят
его хозяева ледащие,
что курят натощак и квасят.
…Где я когда-то околпаченный
подружку тискал торопливо,
на голых ветках много схвачено
морозом белого налива.
За рябинами в дождевой пыли
еле-еле видно крыльцо, веранду —
дом, из которого увели
Эфрона и Ариадну.
Мотыльки, летевшие на свечу,
обожглись, запутались, напоролись.
Вот и нам сегодня не по плечу
рядовой вопросец «за что боролись?»
Читать дальше