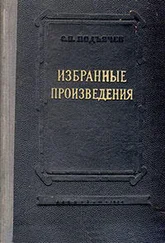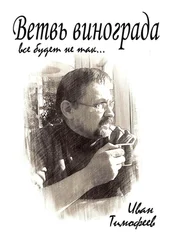И в этой морде, в очертанье скул
так было все и дорого, и мило,
что словно вдруг осколок резанул —
и безотчетно сердце защемило.
А серая дохнула горячо
и, словно ободряя, как ребенка,
слегка потерлась мордой о плечо
и вдруг заржала — молодо и звонко.
Я челку ей поправил между глаз
и зашагал обратно без оглядки…
Тут, собственно, кончается рассказ
о фронтовой хромающей лошадке.
Судьба меня забросила во Львов.
А года через три, попав в Одессу
и повидав знакомых земляков,
я посетил колхоз — для интереса.
Там председатель был уже другой.
Усталый, пропотевший и огромный,
потер он лоб единственной рукой:
— Вы говорите Фара? Нет, не помню…
И, в горечи скривив щербатый рот,
добавил он:
— Отыщется едва ли…
Был недород, нам выпал трудный год,
и, если честно, люди голодали…
Ну вот и все.
Но вновь седло скрипит.
Галопом мчатся прожитые годы.
Лишь стук подков,
да пыль из-под копыт,
да ветер опьяняющей свободы!
Едва услышу ржание коня,
все делается чутким, как в радаре,
как будто это молодость меня
зовет к себе из невозвратной дали.
ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА
Кидает дорога
избитое тело.
Машина летит
сквозь весеннюю слякоть.
За пять или десять минут
до расстрела —
не плакать!
Ах, Жанна, ты слышишь?
Не плакать!
Тайком от французских
солдат и матросов
торопятся рыцари
двух контрразведок.
Горят нестерпимо
печати допросов.
Но стоит ли думать о них
напоследок?
О чем же?
О чем же?!
Уходят мгновенья.
Ревет грузовик
и увозит из жизни.
И рвутся,
и рвутся
последние звенья…
Назло, по-мальчишьи,
как в юности, свистни!
Горячими углями кажутся
туфли.
Толчки на ухабах —
как гром по железу.
Нет, свист не получится —
губы распухли…
Эй, сердце!
Стучи
на весь мир
«Марсельезу»!
Упасть бы сейчас
на постель с простынею,
забыть нестерпимую боль
и усталость-
Сознанье! Останься
до смерти со мною —
недолго дружить нам, как видно,
осталось!
* * *
И вот уже мрака и грохота нет,
а есть тишина кабинета.
И Жанна заходит в большой кабинет,
сердечною встречей согрета.
— Тоскую сильнее я день ото дня,
читая заморскую прессу-
Владимир Ильич! Прикажите меня
сегодня отправить в Одессу.
Там парни из Франции… Нужен им клич.
Я стану работать искусно…—
Чего же простой и великий Ильич
прищурился строго и грустно?
— Спасибо, товарищ! Мне искренне жаль
давать вам опасное дело.
— Но врезана в море дредноутов сталь
вдали от родного предела…—
И Жанна глядит, опечалясь, в окно,
но видит не Красную площадь,
а ширь, где в соленых ветрах полотно
на мачтах крестовых полощет.
Ей чудится берег, где люльку качал
отец-коммунар, напевая…
О Франция, Франция, милый причал,
любовь и судьба штормовая!
И понял Ильич, как тоскует душа,
как жаждет она океана.
Слегка улыбнулся, присел не спеша.
— Ну, что же… Поедете, Жанна!
* * *
Кидает дорога
избитое тело.
Машина летит
сквозь весеннюю слякоть.
За пять или восемь минут
до расстрела —
не плакать!
Ах, Жанна, ты слышишь?
Не плакать!
Машина визгливо
скрипит тормозами.
Приехали.
Точка.
Выходят солдаты.
Вбирай же скорее
душой и глазами
толпою
навстречу
летящие даты!..
* * *
«Оптом, в розницу, на вынос!
Есть заморское вино!»
Шумен вечером «Гамбринус»,
нет свободных мест давно.
Парни веселы и бравы.
Звон стаканов.
Шутки.
Спор.
Чернокожие зуавы
тянут розовый ликер.
Позабыть муштру и каски,
распахнувши воротник,
чтобы берег африканский
в дымке погреба возник.
Снится Африка, нет мочи.
Негры гонят мысли прочь.
Лица их угрюмей ночи,
и сердца их прячет ночь.
Вперемешку платья, блузы.
Гром рояля в полумгле.
Никогда еще французы
не скучали на земле.
— Парни, вон моя находка!
— Хороша, клянусь, она!
Пьер, зови!
— Эгей, красотка!
Выпей нашего вина!
— Отчего ж! К своим с охотой
я присяду, черт возьми!
Наливай, моряк, работай!
Да без рук, мон шер ами!
Читать дальше