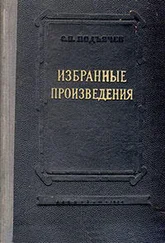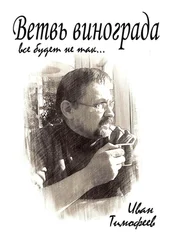И я пошел на этот ясный голос —
и вдруг услышал,
как поют хлеба.
Примерно год на той большой войне,
на той земле, прострелянной и шаткой,
я был, как говорится, на коне,
а проще — ездил на хромой лошадке.
В то время в биографии моей
немногие насчитывались звенья:
лишь номера больших госпиталей,
одна медаль, два фронта, два раненья.
В моих богатствах числился планшет,
добытый у фашиста в схватке краткой,
да двадцать молодых безусых лет
и крупповский осколок под лопаткой.
Потом запасный полк.
Не без причин,
экстерном сдав экзамены законно,
я получаю офицерский чин
и должность адъютанта батальона.
Как звездочки сверкали — просто страх!
Кося глаза па них, как на награду,
сияя, словно хром на сапогах,
я поспешил представиться комбату.
Он был седой, подтянутый гигант.
А голос тонкий, хитрая ухватка.
— Ну, хорошо. Трудитесь, лейтенант.
Да, кстати: вам положена лошадка…
Вот так подарок!
Захватило дух.
Хоть батька из казачества Кубани,
однако сам я — городской продукт
и видел скачки только на экране.
Но все же двадцать лет… И сразу мне
воображенье подсказало остро:
вот я лечу на гордом скакуне —
и за сердца хватаются медсестры!
Я бросился разыскивать хозвзвод.
— Где командир? — задал вопрос солдату.
— Вон, видите, хлопочет у подвод.
Да вы его узнаете по мату…
Сердитый и небритый мужичок
на голос обернулся удивленно.
В глазах читалось: этот вот сморчок
и есть начальник штаба батальона?!
Легла на миг меж нами тишина,
как порох, что внезапно обнаружен.
Он буркнул неохотно:
— Старшина.
И только погодя добавил:
— Дюжин.
Когда из тени выступил на свет,
он оказался столь великолепен,
что для того, чтоб написать портрет,
по меньшей мере требовался Репин.
Ходил бочком хозяйственный наш бог.
В плечах лежала каменная тяжесть.
Он был невероятно кривоног,
при этом ростом невысок и кряжист.
Чтоб с Доном связь никто не опроверг
(позднее остряков не переспоришь!),
казак носил фуражку — синий верх
и яростно малиновый околыш.
Из-под фуражки неуютный взгляд
ощупывал вас жестко и колюче.
А было старшине за пятьдесят,
к вискам прилипли серенькие тучи.
Он оглядел презрительно меня
и вдруг сказал без всяких предпосылок:
— Выходит, вам определить коня? —
Казак фуражку сдвинул на затылок.
Подумал я: «Ну, кажется, контакт!»
А он, как будто назначая кару,
поведал хрипло:
— Есть лошадка… Хвакт!
Пойдемте, лейтенант. Возьмете Хвару!
(Он в речи, что порой была резва,
заострена, как новенькое шило,
все звуки «эф» переменял на «хва»,
уверенный, что прав непогрешимо).
Он уткой закачался впереди
и, видно, не без внутренней ухмылки,
подвел меня к привязанной к жерди
пузатой непородистой кобылке.
— Вот, лейтенант: берите транспорт ваш…
На стременах любого мирно носит.
Хоть ростом и не вышла — хвюзеляж
весь в яблоках, что добрый сад под осень!
* * *
Я поглядел на Фару. Весь мой пыл
и все мое былое вдохновенье
заштатный вид лошадки растопил
в одно неуловимое мгновенье.
Когда я увидал ее сперва,
мне стало не до мыслей вдохновенных:
коротконога; грива, как трава;
облезлый хвост похож на старый веник.
Не радовал, конечно, и хребет,
прогнутый многолетнею нагрузкой,
и общий вид, и грязно-серый цвет,
что делал Фару, несомненно, тусклой…
«Не лошадь, а хвостатая карга»,—
подумал я с запальчивостью веской,
и в Дюжине почувствовал врага
всех лейтенантов Армии Советской!
Себя в седле я видел без прикрас,
как рыцаря с насмешливою славой.
Тут Фара на меня скосила глаз —
вполне живой, блестящий и лукавый.
Затем она дохнула горячо
и, словно ободряя, как ребенка,
слегка потерлась мордой о плечо
и вдруг заржала — молодо и звонко.
И тут же красный, как степной огонь,
тряхнувши гривой возле сосен хмурых,
на ржанье Фары отозвался конь,
высокий жеребец по кличке Сурик.
Проверил я — не потная ль спина
у Фары, потрепал по холке кратко
и вслух сказал:
— Спасибо, старшина.
И вправду, знаменитая лошадка…
Читать дальше