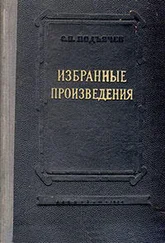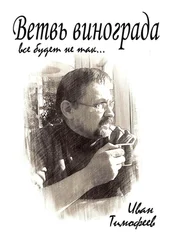Во всех городских и приморских районах
встречал Ивановых — седых, молодых,
веселых и бойких,
ленивых и сонных,
замужних и вдовых,
цветущих,
худых.
В воскресные дни я старательно брился,
завязывал галстук, на поиски шел.
Я даже на свадьбу попасть умудрился
и был громогласно усажен за стол!..
Тощал календарь.
Пароходы гудели.
Несли малышей из родильных домов.
Весна разменяла цветы и недели,
утратила свежесть дождей и громов.
Сходились влюбленные к пушке над портом,
под стрелки бесстрастных висячих часов.
Мне сделалось горько…
В блокноте истертом
немного осталось уже адресов.
Пришел я на улицу Гоголя, восемь.
Красивая я^енщииа вышла ко мне.
Я к ней подошел с безнадежным вопросом.
И вдруг… пробежал холодок по спине.
— Входите,— сказала,— я знала такого.
Все верно. Действительно, я — Иванова.
Но вытрите туфли вот здесь, о ковер,
не то нанесете мне уличный сор…
Усажен я был на простой табуретке
у самых дверей — чтоб не портить паркет.
Меня обступили вокруг статуэтки,
сервизы, венчавшие темный буфет.
А золото… золото здесь, без утайки
холодную тусклость металла храня,
с буфета,
с подставок
и с пальцев хозяйки
жестоко глядело
в упор на меня.
И женщина в пестром халате японском,
как будто с рекламы, бела и кругла,
довольна квартирой и собственным лоском,
пропела, взглянув на себя в зеркала:
— Встречалась я с ним перед самой войною.
Девчонкой была я наивной, дурною.
Имел он по боксу какой-то разряд…
Но он-то, бедняжка, погиб, говорят?
Да что же такое? То явь или снится?!
Поднялся я, руку в кармане держа.
Взмахнули ее тушевые ресницы
и замерли снова, как иглы ежа.
Секунду стоял я, как судно в тумане.
Сдержал себя. Бить и ругаться не стал.
Нащупал подарок матроса в кармане
и стиснул суровый и теплый металл.
Нарочно ступил на зеркальность паркета,
как будто в ответ на ее хвастовство,
и думал:
«Не стоит ведь «золото» это
ни жизни его
и ни смерти его».
Провел по лицу я тяжелой рукою
и тихо сказал, отступая за дверь:
— Простите. Ошибка. Бывает такое.
Он жив и на должности высшей теперь.
Вы слышите? Жив Байдебура. Навечно!
Все время он будет смотреть вам в глаза.
И он заходить не просил к вам, конечно.
Мы просто попутали с ним адреса.
Шагал я по городу улицей новой,
нашедший и что-то утративший вдруг.
И словно опять: «Передай Ивановой!» —
шепнул мне сквозь годы
невидимый друг.
Не знаю, понравились просто черты ли
иль что-то иное меня привело,—
Садовая, десять, квартира четыре.
Я вновь постучался — всем правдам назло!
И сделалось сразу тепло и легко мне,
когда я увидел студентку мою.
— Простите… я снова… Я, знаете, вспомнил,
что с вашим Сергеем встречался в бою.
Лежал на шинели он строгий, суровый.
Склонился дружок над его головой.
«Вернешься с войны — передай Ивановой
на память медаль и привет мой живой…»
Хозяйка шагнула бесшумно, без скрипа,
лишь сомкнутых губ незаметная дрожь.
И только глаза говорили «спасибо»
за эту мою вдохновенную ложь…
Потом я бродил возле моря и хмуро
шептал, как итог
завершенных дорог:
— Ты слышишь, товарищ Степан Байдебура?
Я выполнил просьбу матроса
как мог.
В газете дали мне командировку.
Маршрут не нов, и тема не нова.
Сказал редактор:
— Нужно зарисовку —
ведь завтра начинаются жнива.
И вот шагаю по полю с блокнотом.
Грузовики торопятся, пыля.
Хлеба шумят и бредят обмолотом.
От духоты потрескалась земля.
Случайный спутник, почтальон колхозный,
подводит за рога велосипед.
— Прислушайтесь: хлеба поют…
Серьезно!
Заметьте, песни задушевней нет…
Я напрягаю слух, но бесполезно:
на землю шорох сыплют колоски.
Смеюсь в душе: «Какая ж это песня?
Ей-богу, есть на свете чудаки!»
Я растираю колосок в ладони,
а жаворонок тает в вышине.
И вдруг далекий перелив гармони
по гребням ржи доносится ко мне.
Он то звучит, то снова замирает.
В нем сквозь веселье вспыхивает грусть.
Уборка в поле…
Кто же там играет?
С похмелья, что ли, жарит наизусть?..
Читать дальше