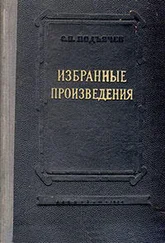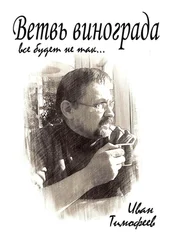По утрам, до завтрака, покуда
бритва электричеством жужжит,
в зеркальце, как будто в капле чуда,
четко отражается мой вид.
Как бы принимали мы решенья,
возвышались телом и душой,
если бы не знали отраженья
в чьей-то бескорыстности чужой?
Красота б себя не узнавала!
Вспомни, как в безмолвности святой
колдовские формы Тадж-Махала
трепетно подчеркнуты водой.
Кто-то отражается во внуке,
кто-то в ресторане допоздна…
Ну, а мы, любимая, в разлуке —
в той, что вместо зеркала дана.
Хоть и небогат с годами выбор,
повторяю, кончивши бритье:
— Маленькое зеркальце, спасибо
за напоминание твое!
Поспешу я всматриваться в лица,
мир в себя вбирать, вершить дела,
чтоб успеть до смерти отразиться
в чем-то большем, чем кусок стекла.
«Еще стреляет летняя гроза…»
Еще стреляет летняя гроза,
летят осколки ливневого залпа.
В моем блокноте гибнут адреса
друзей, ушедших тихо и внезапно.
Но грянет гром, и мой настанет срок,
шмель задохнется на басовой ноте,
и кто-то посреди земных дорог
мой адрес тоже вычеркнет в блокноте.
Мы смерть ругаем — как могла посметь?!
Немного проку в этой укоризне.
Согласен! — пусть вычеркивает смерть…
Страшнее, если вычеркнут при жизни.
«Прощайте, друзья мои…»
А. Пушкин
Наш век космический радарен.
Уходят спутники в полет.
Ах, книги! Я вам благодарен,
что вы попали в переплет.
Летит, летит в небесной сини
корабль, невидимый глазам.
Как будто к хлебу в магазине,
мы привыкаем к чудесам.
Но как мне выразить словами
вам, книги, истинный восторг?
Мне Пушкин был подарен вами,
открыты запад и восток.
Один остряк, веселый кореш,
сказал с усмешкой шутовской:
— Ведь книги, знаете, всего лишь
консервы мудрости людской!
Что от консервов остается?
Нет, книги, волей мудреца
вы — как подобие колодца,
где можно черпать без конца.
Бывали вы не раз в опале,
в сердца тупиц вселяли страх.
Вас наравне с людьми сжигали
на инквизиторских кострах.
Зато когда встречался с вами,
редела мелочей орда.
И большинство из вас друзьями
мне становилось навсегда.
А время мчится, жизнь вершится.
И оттого невмоготу,
что с сотнями друзей сдружиться
не успеваем на лету…
Нет, надпись ничего не путала!
Голубизна лилась с экрана.
Я слушал музыку компьютера —
и было жутко мне и странно.
Звучала нота электронная
объемно и необычайно.
Машина неодушевленная
была угрюма и печальна.
Пока она владела цифрами,
в ней щелкал гений счетовода,
и проносились числа вихрями
в пределах заданного кода.
Но вот коснулась тайны творчества —
и родилась душа паяца,
которой, как всем душам, хочется
страдать, и плакать, и смеяться!
Как-то утром прошлого зимою
ненароком обнаружил я
на балконе с белой бахромою
ледяной комочек — воробья.
Видно, ночью синими руками
крошечное сердце сжал мороз.
И упал со стуком серый камень,
что мохнатым инеем оброс.
Вроде бы кому какое дело,
что, бесшумно перья вороша,
на сыром ветру заледенела
маленькая, теплая душа?
Только почему же, почему же,
в сердце мне впиваясь, как репей,
голоском, вернувшимся из стужи,
говорит замерзший воробей:
— Извини, присел я на окошке,
заморился и взлететь не мог.
Что же ты не вынес мне ни крошки?
Неужели жалко было крох?
Я хотел сослаться было, птаха,
на нелегкий високосный год,
на дела глобального размаха,
на десятки собственных забот.
Но не стал вещать в подобном тоне,
чтоб себя не чувствовать слабей,
а насыпал крошек на балконе
и сказал: «Спасибо, воробей!»
«Платаны, сквозь листья луч солнца просеян…»
Платаны, сквозь листья луч солнца просеян.
Чинары, мне нравится ваше житье:
вы позже других одеваете зелень
и позже других отдаете ее.
Вы — гордость бульваров, дворов и гостиниц,
надежда попавших под зной площадей.
Кто дал вам названье деревьев-бесстыдниц?
Стыдиться вам нечего в жизни своей.
Читать дальше