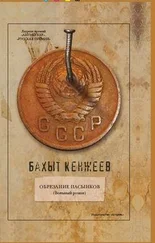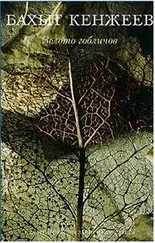Мимо каменных птиц на карнизах
коршун серый кидается вниз,
где собачьего сердца огрызок
на перилах чугунных повис.
Там цемент, перевязанный шелком,
небелёного неба холсты,
и пора человеческим волком
перейти со Всевышним на ты.
И опять напрягается ухо —
плещет ветер, визжит колесо, —
и постыла простая наука
не заглядывать правде в лицо.
«Уходит звук моей любимой беды, вчера ещё тайком…»
Уходит звук моей любимой беды, вчера ещё тайком
зрачком январским, ястребиным горевшей в небе городском,
уходит сбивчивое слово, оставив влажные следы,
и ангелы немолодого пространства, хлеба и воды
иными заняты делами, когда тщедушный лицедей
бросает матовое пламя в глаза притихших площадей.
Проспекты, линии, ступени, ледышка вместо леденца.
Не тяжелее детской тени, не дольше лёгкого конца —
а всё приходится сначала внушать неведомо кому,
что лишь бы музыка звучала в морозном вытертом дыму,
что в крупноблочной и невзрачной странице, отдающей в жесть,
и даже в смерти неудачной любовь особенная есть.
А кто же мы? И что нам снится? Дороги зимние голы,
в полях заброшенной столицы зимуют мёртвые щеглы.
Платок снимая треугольный, о чём ты думаешь, жена?
Изгибом страсти отглагольной ночная твердь окружена.
И губы тянутся к любому, кто распевает об одном,
к глубокому и голубому просвету в небе ледяном…
«То могильный морозец, то ласковый зной…»
То могильный морозец, то ласковый зной,
то по имени вдруг позовут.
Аметистовый свет шелестит надо мной,
облака молодые плывут.
Не проси же о небе и остром ноже,
не проси, выбиваясь из сил, —
посмотри, над тобою сгустился уже
вольный шум антрацитовых крыл.
И ему прошепчу я: души не трави
человеку, ты знаешь, что он
для насущного хлеба и нищей любви,
и щенячьего страха рождён,
пусть поёт о тщете придорожных забот,
земляное томит вещество —
не холоп, и не цезарь, и даже не тот,
кто достоин суда твоего.
Но конями крылатыми воздух изрыт,
и возница, полуночный вор,
в два сердечных биения проговорит
твердокаменный свой приговор.
«Пой, шарманка, ушам нелюбимым…»
Пой, шарманка, ушам нелюбимым —
нерифмованный воздух притих,
освещен резедой и жасмином европейских садов городских,
подпевай же, артист неречистый со зверьком
на железной цепи,
предсказуемой музыке чистой, прогони её или стерпи,
что ты щуришься, как заведённый,
что ты слышишь за гранью земной, в
голосистой вселенной, бездонной и короткой,
как дождь проливной?
Еле слышно скрипят кривошипы, шестерёнки и храповики,
шелестят елисейские липы, нелетучие ноты легки,
но шарманщику и обезьяне с чёрной флейтою наперевес
до отчаянья страшно зиянье в стреловидных провалах небес,
и сужается шум карнавала, чтобы речь, догорая дотла,
непослушного короновала и покорного в небо вела.
«Земли моей живой гербарий!..»
Земли моей живой гербарий! Сухими травами пропах
ночной приют чудесных тварей – ежей, химер и черепах.
Час мотыльков и керосинок, осенней нежности пора,
пока – в рябинах ли, в осинах – пропащий ветер до утра
листву недолгую листает, и под бледнеющей звездой
бредут географ, и ботаник, и обвинитель молодой.
Бредут в неглаженой рубахе среди растений и зверей,
тщась обветшалый амфибрахий и архаический хорей
переложить, перелопатить, – нет, я не всё ещё сказал —
оставить весточку на память родным взволнованным глазам,
и совы, следуя за ними и подпевая невпопад,
тенями тёмными, двойными над рощей волглою летят.
Чем обречённее, тем слаще. Пространства считаные дни
в корзинку рощи уходящей не пожалеют бросить ни
снов птичьих, ни семян репейных, ни ботанических забот.
Мятежной твари оружейник сапожки новые скуёт,
на дно мелеющего моря ложится чистый, тонкий мел,
и смерти тождество прямое ломает правильный размер.
Не зря ли реки эти льются? Ещё вскипит в урочный час
душа, отчаявшись вернуться в гербарий, мучающий нас.
Пустое, жизнь моя, пустое, – беречь, надеяться, стеречь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу