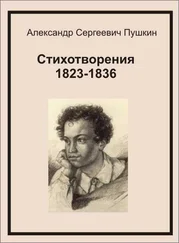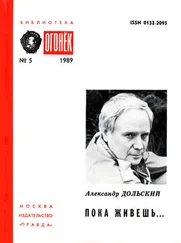и время другое начнется.
Ах, как это редко бывает.
Но в памяти живы мгновенья,
что жизнь нам порой посылает.
Они неподвластны забвенью.
Ах как это редко бывает.
1987
Ты музыка, сын мой, ты голос,
который дошел из глубин
духовных провинций, ты колос
астрального поля, один...
Смотри - твои слабые руки
готовят в прозрачной реке
ракушек и камушков звуки,
и влага течет по щеке.
Вот это поля, что Всевышний
для вздохов тебе подарил,
вот лес, за которым неслышим
детсад миллиардов ярил.
Они, повзрослев, восплывают
над легкой твоей головой.
И ловит планета живая
тепло их тобой и травой.
Вот рыбы в морях, вот олени
в лесах, что извел человек,
в реке затонули поленья
из многих пустых лесосек...
Прости, что на ноту печали
свернул, не считаясь с тобой.
Об этом когда-то молчали
поэты с дворянской судьбой.
Не знали об этом с крестьянской,
с мещанской.., короче, тогда,
когда ни в калужской, ни в брянской
не снилась такая беда,
Сегодня же строки напасти
выводит любая рука...
Земля загноилась от страсти
властительного дурака.
Сначала исчезнет погода
и станут дожди убивать,
Отравит младенца-урода
в себе среднерусская мать.
И станут большие машины
качать для народных господ
оставшийся только в вершине
последний земной кислород.
А ты от дерьма и заразы
не сможешь любить и дышать,
и светлой молитвы ни фразы
не вспомнит тупая душа.
И ты упадешь и заплачешь,
к себе призывая отца...
И я возвернусь, и болячки
сожну, как пшеницу, с лица.
И я заберу твою душу
в другой, незагаженный срок,
оставив земному удушью
властителей малый мирок...
Вот книги, мой сын, вот сонаты,
вот люди древнейших пород,
вот руки и мамы, и брата,
вот наш непонятный народ,
вот я - и твой раб, и воитель...
Покуда я жив и силен,
я стану земную обитель
беречь от нахлебных племен.
Но словом, мой сын, что издревле
точнее стрелы и свинца...
Оно от Земли и Деревни.
От Звезд и другого Отца.
1987
Размечтались мы о правде,
разохотились до чести,
переполнены газеты
исцеляющей бедой.
И сидит историк тихий
на своем доходном месте,
со страниц чужие слезы
выметая бородой.
И стоят дома большие,
где в огромных картотеках
прибавляется фамилий,
прибавляется имен.
Что сказал, что спел когда-то,
все до буквы, как в аптеке,
в эти клетки самый грустный,
самый честный занесен.
И стоят дома поменьше,
где приказчики культуры
и чиновники от прозы
и поэзии корпят,
и вершат судьбою духа
сторожа номенклатуры,
в инженеры душ наметив
поухватистей ребят.
Шахиншахские приходы
за вранье в стихах и прозе
охраняют от огласки
через главное бюро...
Не коснется свежий ветер
подмосковных мафиози.
С переделкинских маршрутов
безнадежен поворот.
И дома другого сорта
понаставлены по свету,
где во чреве бюрократов
спят параграфы речей,
где у них за преступленья
отбирают партбилеты
индульгенции на подлость
и повадки палачей.
И дома пажей болтливых,
бессердечных, твердолобых,
где из мальчика с румянцем
лепят хитрого жреца,
где готовится замена
умирающим набобам,
чтоб властительная серость
не увидела конца.
И стоят дома попроше,
где врачи и инженеры,
ветераны справедливой
и несправедливой битв,
наши матери и жены,
и святые нашей веры
все опальные поэты,
сочинители молитв,
там, где рокеры и барды,
и рабочие, и дети,
и мадонны, и старухи,
проходившие ГУЛАГ,
там, где теплится культура
всех пределов и столетий,
гарнизоны осажденных
поднимают белый флаг...
Где эта улица, где этот дом,
с юности светлой знакомый?
Где эта барышня, что я влюблен?
О Боже! Работник райкома.
1987-1989
Я был чиновником когда-то
давным-давно, давным-давно,
имел убогую зарплату -
на хлеб хватало и вино.
Не тем чиновником, конечно,
что власть имеет и доход,
а нищим, маленьким и грешным,
как весь народ, как весь народ.
Я переписывал бумажки,
не понимая, в чем их суть.
Тоскливо это, но не страшно...
Таков мой путь, таков мой путь.
Я вспоминаю эти годы
не без раскаянья и слез -
не знал я правды и свободы...
Читать дальше