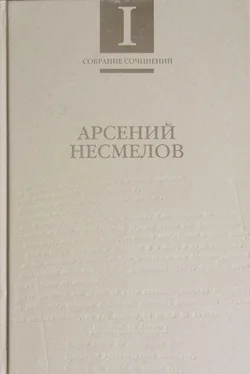И, тягостная, непереносима
Минута эта. Мрачный спутник мимо
Несчастного лица его глядит.
«Освободи!» — вопит его томленье,
И два кинжала, смерть — освобожденье,
Нерону подает Епафродит.
Но даже гибель не освободит
От наказания, от воздаянья:
Бессмертие протягивает длани
Над тем холмом, в котором он зарыт!
Тот холм прочней и выше пирамид —
Гора проклятий до небес достанет,
Но из окаменелостей гремит
Живой ручей Актеиных рыданий:
Подобная кротчайшей голубице, —
Женоубийце, матереубийце
Готовит гроб, от горечи темна;
Над бессердечной вечностью взлетая,
Прелестная язычница-святая,
Не истинной ли святости она?
И отблеском двойным озарена
Тень кесаря. Подумайте, как странно:
Глупец, фигляр, Антихрист, Сатана,
Зловещий Зверь видений Иоанна, —
Любим был нежно, верно, неустанно,
И жалости любовь не лишена:
Так гной болот жалеет вышина,
И лишь такой любви поем: Осанна!
Года, года, как пыль дождя, года…
Взревет труба последнего суда,
Раскроется презренная могила,
И разве мыслимо ответить: нет!
На женских глаз наикротчайший свет,
На шелест сердца: «Я его любила!»
Здесь ставлю точку. Спущено ветрило,
Цепями загремели якоря:
Пророчит осторожная Сивилла
В дальнейшем глубочайшие моря,
А. плаванье и так уж утомило —
Истрачен полно творческий заряд…
Вы, улыбаясь, говорите: «Мило!» —
Как о наряде новом говорят.
Еще смущает Вас Перепетуя:
«Иначе бы я назвала святую,
Иным смешное имя заменя…
И почему, с язвительностью некой,
Себя каким-то выведя… Сенекой,
Актеей вы являете меня?»
Бросает пахарь в землю семена,
И своенравно прорастает семя…
История ожившего зерна
Живой любви отражена в поэме.
Неузнанная, робкая, она,
Таясь с предосторожностями всеми,
Как зернышко была погребена, —
Зерно взошло в чужой, далекой теме.
И всё — как в сложной путанице сна:
Реальность в символы отнесена, —
Ведь Вы актеру подарили сердце,
И вот — Нерон. Вы говорите: месть!
За что ж тогда благоговенье счесть?
Пусть лучше так: всему виной сестерций.
Харбин, 1934
ИСКУШЕНИЕ В ПУСТЫНЕ [341]
Добро есть сохранение жизни живущим
и возвращение ее теряющим и потерявшим жизнь.
Н.Ф. Федоров
Закат дотлеет, и остынет
Песок. Расплакался шакал
И стих. И — ночь. Постясь в пустыне,
Сын Человеческий взалкал.
И в голод, в голос силы некой
Нижайшей — вслушивался Бог.
Изнеможенье человека
Враг величайший подстерег.
Без плоти грудь, без взора очи,
Лишь оперенье черных крыл,
И будто сумрак смертной ночи
Из всех могил заговорил:
«Беседа эта тяжела мне,
Но нам ее не отвратить.
Я знаю, скалы, эти камни
Ты можешь в хлебы превратить.
Вочеловечась, тело мучишь
Зачем? Бессмысленно! Зане
Что в человеке ты изучишь,
Что б не известно было мне?
Мы оба рождены Единым,
С тобою мы как день и ночь,
И если ты зовешься Сыном,
То я никто ему, как Дочь.
Но ты томишься, как бродяга,
Во тьме замысливший мятеж…
Пойми, прими меня как благо
И тем томления утешь!»
Шептались шорохи. Пустые
Ущелья стыли. Зверь рычал.
Сияла звездная пустыня.
Сын Человеческий молчал.
И снова голос: «Все усилья
Твои направлены к чему?
Ты человеку даришь крылья,
Ты горний путь сулишь ему?
Не искушай, как Змий у древа!..
Ты не спасешь, но во сто крат
Лишь увеличишь меру гнева
И низведешь на землю ад.
Твои слова истлеют в склепах
Тяжелых золоченых книг,
В застенках извергов свирепых
Твой изуродованный лик
Внесет палач — да светит судьям,
Кровавый освящая суд!
И ты отвратен станешь людям,
И люди от тебя уйдут.
И “Он обманщик! — скажет всякий. —
Он шел, усмешку затая”.
И будет свет един во мраке:
Исчезновенье, гибель, Я!»
Та речь, как бич, пустыню с е кла.
Весь мрак гремел и обличал.
Смутились звезды. Звезды меркли.
Сын Человеческий молчал.
Читать дальше