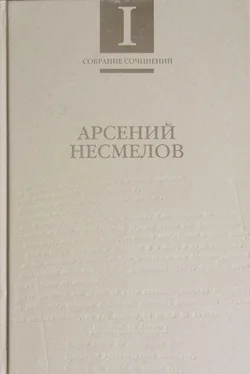Над просекой… И вздрагивала ночь,
Оттаивая заревом над грабом,
И было грабу, видимо, невмочь,
И он ворчал, поскрипывая слабо.
Потом, огнем прижатые к траве,
Отстаивая просеку и тропы,
Мы в огненный втянулись фейерверк
И дымный бой по просеке затопал.
Пылал за нами, разгораясь, дом,
И охала укрывшая дороги
Трущоба гулкая, как ипподром
Кентавров огнегривых, медноногих.
У дома, бушевавшего огнем,
Рыжела яма — острая воронка,
И на краю, в переднике своем,
Дымилась обгорающая Бронка.
Бежать, бежать, валежником треща,
Потом собраться, талым от одышки,
И слушать, вздрагивая, трепеща,
Трущобу озаряющие вспышки…
И вновь бежать, затерянным в лесу,
Лицом сметая паутины нити,
Пока не натолкнешься, как на сук,
На окрик: «Кто идет? Остановитесь!»
— Свои! — Позвякиванье котелков,
Тяжелое движение: колонна.
Тумана голубое молоко.
Патронная двуколка. Батальонный.
Трещали дни, как избы деревень,
Как бревна. Скатывались в недели.
Привыкнув спать в земле и на траве,
Мы стали черными и похудели.
Гремел, крушил и нес водоворот:
Любовь и смерть. Проклятья, грохот, вздохи, —
И это всё — четырнадцатый год
Столетия и первый год — эпохи.
Всклокоченный, шарахнувшийся год!
Харбин, 1931
В монетном хламе — в зелени медяшек —
Отысканный приятелем моим,
Он слеп и тускл, но чувствуете тяжесть:
На Вашей замшевой ладони, — Рим!
О древность! Шепотом мы говорим,
Как будто ждем, о чем он нам расскажет;
Но он молчит, он умер. Он прикажет
В былую жизнь последовать за ним.
Годов опавших шелестящий ворох…
Перешагнем! — Июльский вечер.
Форум. Ленивый плеск стихающей молвы.
В одной из лектик, в пышном паланкине,
Покачиваюсь я — поэт, как ныне, —
И кесаря возлюбленная — Вы.
Глаза у Вас такой же синевы,
Как и теперь, но туалет Ваш — стола;
В улыбке, в повороте головы
Высокомерность мрамора: с престола
Взирают так… Наш экипаж тяжелый
Несут рабы — двенадцать крепких вый…
Поклонников Ослиной Головы
И между ними сыщет кнут свинцовый.
Но Вы не истязательница, нет,
Тем более что иудейский бред
Успел и Вас кольнуть своим стилетом;
Вам непонятна кесаря боязнь,
Но пусть умрут, коль заслужили казнь,
Не женщине же разобраться в этом!
Вы — звездочка… Над римским полусветом
Немало вспыхивает светлячков.
Ваш век — не годы и не год, а лето;
Предначертанье — пурпурный альков
Державного. Но требует стихов
Вечерний пир, и Вы дружны с поэтом,
И пусть, таясь, я грезил не об этом
Союз наш в прошлом именно таков.
Но о себе — как спутник посторонний.
О Вас пою. — Мечтая о Нероне,
Актея стонет: «Взор прозрачней льда…
Золотокудр, что август в розах сада!»
«Ах, просто рыжий!» — думаю с досадой
И говорю почтительно: «О да!»
Вы названы, и я не без труда
Произношу сияющее имя…
Не потому ли, что с пятью другими
Пять букв его сплелися навсегда?
И все-таки припомните, куда
Нас переулками несли кривыми?
Я вижу Тибр. Как бы в тончайшем дыме
Лежит отяжелевшая вода.
В амфитеатр! Сегодня смертью ярой
Сомнительных виновников пожара
Карает кесарь. До такой гульбы
Я не охотник, да и Вы, пожалуй,
Но этикет обламывает жало
У жалости: не можете не быть!
В котле амфитеатра душно. Лбы
В испарине, лоснящейся багряно.
Обрызгивают подиум рабы
Водой, благоухающей шафраном.
Туники просмоленные; столбы
Вспылавшие!.. Все муки христианам:
Звериный клык, подземный Туллианум,
Красивым девушкам — Фарнезский бык!
С его рогов невинные Дирцеи,
В немой беспомощности цепенея,
Крестообразно на песок падут.
И, озаренный прыгающим светом,
Ценитель кесарь, будучи эстетом,
Подносит к глазу круглый изумруд.
Но на рогах они не все умрут —
Иные развлеченья не забыты…
Уже готовят новую игру,
И пять столбов в песок арены врыты.
Читать дальше