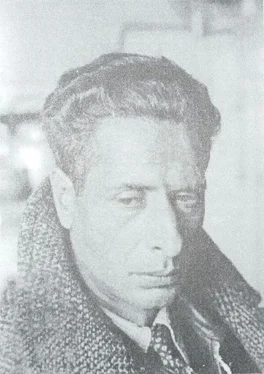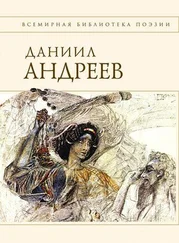Встав в плане художественном на путь преодоления воздействий, проявившихся в берлинский период, Андреев в плане общественном всегда сохранял верность тому «берлинскому» духу, с которым столкнулся в дни своих первых литературных
выступлений. Идее амальгамации «зарубежья» и «метрополии» он был верным всю свою дальнейшую жизнь, после того, как «берлинский» эпизод русской культуры безвозвратно канул в Лету.
Вместе с ближайшим своим другом, как и он, начинающим поэтом Георгием Венусом, Вадим Андреев в 1924 году подал в советское полпредство в Берлине ходатайство о репатриации. В то время как Венус такое разрешение получил и вернулся в Россию [8], Андреев, не дождавшись ответа, покинул Берлин и приехал 28 июня 1924 г. в Париж, где, спустя три недели по прибытии, узнал об отказе в советской визе [9]. Получил уиттморовскую стипендию, он записался в Сорбонну, где, в частности, слушал курсы Н.К. Кульмана и М.Л. Гофмана. За четверть века парижской жизни он сменил разные профессии (работал на заводе Рено, был линотипистом в типографии и «монтажистом» в кинематографической фирме [10]).
«Левые» политические настроения и живой интерес к литературе советской России поставили Вадима Андреева вне эмигрантского литературного истэблишмента, но сделали его одной из центральных фигур молодого эмигрантского поколения. Неколебимая убежденность в исторической миссии России при неприятии всех форм политического экстремизма — правого ли, коммунистического ли толка — и верность идеалам либеральной предреволюционной интеллигенции сыграли в этом, по всей видимости, большее значение, чем литературные взгляды и выступления Вадима Андреева. Но тяготение к советской России имело под собой не столько политические, сколько художественные причины: ведь, за исключением Цветаевой, с которой сближается Андреев в Париже, поэты-современники, сильнее всего заворожившие его, — Пастернак, Ахматова, Мандельштам, Маяковский — оставались там, в метрополии. Вместе с тем, несмотря на глубокие идеологические разногласия, Андреев с большим уважением относился и к противоположному полюсу в эмигрантской поэзии, к Ходасевичу, Г. Иванову и Адамовичу. Через Бориса Поплавского, с которым он познакомился в Берлине, Андреев присоединился к парижскому Союзу молодых поэтов, до 1927 года еженедельно собиравшемуся в кафе Ля Боллэ, и был одним из самых активных участников этого объединения.
Как и у других парижских русских поэтов его поколения, двадцатые годы в творчестве Андреева — самый яркий и плодотворный период, тогда как к середине тридцатых годов намечается явное увядание лирической энергии. В значительной степени это отражало состояние и русской поэзии в целом, и из старших эмигрантских поэтов ослабления художественной силы избежал разве только Георгий Иванов.
Участие в движении Сопротивления и сотрудничество с советскими военнослужащими в годы фашистской оккупации Франции [11]дали Андрееву ощущение новой России, а победа Красной Армии над Гитлером обострила в нем, как и во многих русских эмигрантах, стремление обрести советское гражданство. В условиях эйфории, наступившей вскоре после Победы и недолговременного сближения двух Россий — советской и зарубежной, Вадим Андреев был в числе тех, кто в 1946 году принял советское подданство, а в 1948 году пытался добиться разрешения вернуться на родину. Получив снова отказ от советских властей [12], он переехал в Нью-Йорк, где нашел работу в ООН в качестве переводчика, а спустя десять лет переселился в Женеву. По сравнению с предвоенным периодом литературный круг его еще более сужается и атомизируется: в Нью-Йорке это Софья Прегель и Ирина Яссен с их издательскими антрепризами; в Париже самым близким другом семьи Андреевых остается Ремизов; в Женеве — Марк Слоним. Стихи Вадима Леонидовича появляются лишь в тех немногих эмигрантских изданиях, которые в те годы «холодной войны» воздерживались от антисоветских выступлений.
Крутые перемены в советском обществе после смерти Сталина повлекли за собой и перемены в литературной судьбе Андреева. В 1957 году ему удалось осуществить заветную мечту — посетить родину и увидеть старые, дорогие с детства места [13]. Вслед за этим он совершил несколько поездок в Советский Союз. Ему выпала привилегия, которой не имели тогда другие писатели русской эмиграции: прозаические его произведения — мемуарно-автобиографические вещи, начиная с «Детства», появились в советских журналах и выходили отдельными книгами в советских издательствах. Возникала своеобразная ситуация «экстерриториальности», когда, не становясь советским писателем, продолжая жить на Западе и воздерживаясь от слияния с эмигрантской литературно-политической средой, Андреев получал доступ к широкой советской аудитории. Замечательно, что это привилегированное положение не связано было для писателя со сколь-либо существенными компромиссами с совестью. Процессы, происходившие в советской действительности в годы правления Хрущева («оттепель»), внушали ему оптимизм и веру в необратимость либерализации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу