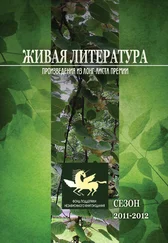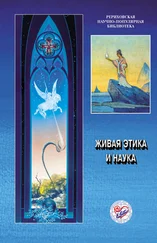– Я, ребята, к вам прикипел, – любил повторять он, – Москва Москвой, а эти просторы, хлеба дивные, луга сенокосные всю зиму мне снятся.
Удивлялись мужики деревенские! К чему, мол, тут прикипать, какая такая напасть гонит его из большого города в эту видавшую виды затурщину, но, подыгрывая подвыпившему профессору, расхваливали свое житье-бытье, – масляным, духмяным, как мед, словом ярко и сочно рисовали незабвенные образы деревенского быта. Рисовали так, что и у самих на глаза опускалась поволока, и голос дрожал, и рождалось в душе щемящее чувство своей сопричастности с вечностью. Особенно старался Валерка Винтарь. Был он уже не молод, детей не имел, хозяйство свое вел справно, был говорлив и скор на обещания, любил помогать профессору.
– Да, Афанасьевич, просторы у нас, что надо, – аккуратно подступал он к интересующей теме, – меня вот возьми. Тоже в большом городе жил и работал. Патрет мой на видном месте, на Доске почета, висел, большим человеком мог стать, а нет – сюда потянуло. Как и тебе, виделись просторы эти, дерева вдоль дороги, места грибные да рыбные. Как-то, помню, к Рождеству дело шло, сон каждый день виделся мне. Только усну и речку вижу, Ельшу значить, луг широкий цветущий, тропинку в Щиповик и дом материнский, тот первый, что после сгорел. Вот и бросил я все, домой поспешал. Лет двадцать живу здесь и не каюсь. Воздухом свежим дышу, березовый сок ведрами пью. Первый гриб – мой, лучшая рыба – тоже моя, клюква-брусника – все мне доступно, все под рукой. А красота-то у нас ненаглядная. Вот ты ночью на звезды глядел? Не глядел! Так я тебе покажу как-то. На рыбалку с тобой поедем. Рыбу ты любишь?
Афанасьевич любил рыбу, любил крепенькие боровики, сладкую землянику с парным молоком, молодую картошку с хрустящим, первого посола, огурцом вприкуску. Он любил все, что рождала земля, что каждодневно впитывало солнечный свет, кристально чистый воздух, светлые воды родников его родины. И потому с радостью соглашался отправиться на рыбалку.
– На рыбалку? С удовольствием! А рыбачить-то где будем?
– Рыбачить? Место я знаю. На Николаевой лучке. Заводь там классная, стремнинка бьет, а жерех, головль стаями ходит. Каждый год там рыбачу. Рано по утру, роса не сойдет, лужок я скошу. К вечеру сено подсохнет – в копны сметаю. Сетку бросим, а сами в копну. На небо будем глядеть, тишину будем слушать. Ты только бутылочку захвати для полного удовлетворения жизни.
Утром Винтарь не косил, другие, более важные дела напрягали, не шли они звонким, как эхо, вечером на Николаеву лучку, не бросали сети, но какое-то светлое, таинственное чувство западало в душу и теплилось там все долгие зимние ночи.
Хоть и наездами был Афанасьевич в деревне, хозяйство вел справно. Каждый год, на запущенном некогда дворе, появлялось что-то новое. Банька ли, теплица, голубые ставеньки, колодец, выполненный непременно из «царской» глухой ольхи, как-то естественно вписывались в окружающий мир, дополняли его, вносили разнообразие в нищавшую уже деревню. А Афанасьевич радовался.
– Надо же, чудо Иван сотворил, – и трогал рукою резной наличник, – не дерево – кружева вологодские. Вот это мастер. Не мастер – волшебник, – уточнял он, от удовольствия потирал руки и улыбался. И непонятно было, чему улыбался: то ли искусству мастера, то ли исполнению еще одного своего желания.
Шло время. Афанасьевич крепко обжился в деревне. Готов был переселиться сюда, чтобы каждый день прикасаться к своим истокам, к земле, подарившей ему жизнь, бывать на родных могилах, во все времена радоваться чудной игре природы и чувствовать себя неотъемлемой частью деревенского мира.
– Подождите, – говорил он, – на пенсию выйду, так весь год проживу в деревне. Хочу увидеть все, что с детства меня поразило, что осколками, брызгами залегло в мою душу.
Рухнуло все разом. Вкривь и вкось пошла городская-деревенская жизнь. В деревне с каждым годом нищал совхоз, сеяли меньше, скотину пустили под нож, а потом и вовсе свели хозяйство к упадку. Сначала мужики-работяги возмущались не слабо, буянили, приструнить хотели новую власть, а потом, поразмыслив маленько, решили – и так проживем. Скотина на дворе есть, руки, ноги целы. Надо будет, и копейку какую заробим. С тем и разошлись. Ловкачи выкупили в совхозе старенькие трактора и машины, втихушку растащили по дворам прицепы и сеялки, разобрали для надобности зерноуборочные комбайны. Каждый хитрил сам за себя, каждый желал правдой-неправдой, темной ли ночью, светлым ли днем утащить кусок пожирнее и припрятать его до лучших времен. А они, эти времена, уже наступали. Землю делить стали. Бумагу на пай выдавать, что такой-то-такой имеет надел в семь гектаров и волен распоряжаться им по своему разумению. Наступала свобода. Только мало кто еще знал, что делать с этой свободой. Самые продвинутые поняли, что совсем не обязательно ходить на работу, корячиться на общественном поле, что сам ты нынче царь и хозяин, сам Конституция, сам власть и закон. От такого положения дел голова закружилась. И стали строить они грандиозные планы. Кто-то хотел свой надел превратить в картофельную плантацию, кто-то собирался скотину выращивать, а кто-то рассчитывал получить солидную прибыль с торговли обычным сеном. Мужики кучковались, самогон глушили, лясы точили, до хрипоты спорили о прелестях и преимуществах нового времени. А тут и весна. Сеять надо, а где и как? Винтарь в сельсовет подался, бумагу в руках держал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
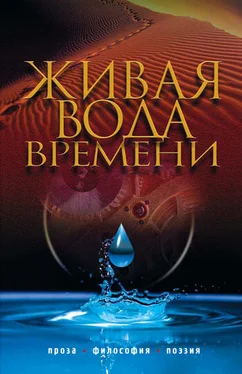
![Коллектив авторов - Кулинарная книга анархиста [Сборник рецептов]](/books/29797/kollektiv-avtorov-kulinarnaya-kniga-anarhista-sbor-thumb.webp)

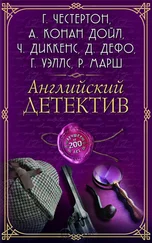



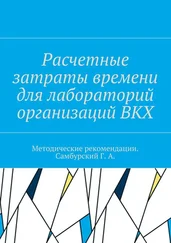

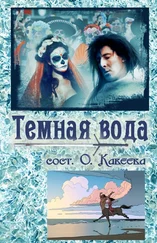
![Коллектив авторов - Клыки. Истории о вампирах (сборник) [litres]](/books/427941/kollektiv-avtorov-klyki-istorii-o-vampirah-sborn-thumb.webp)