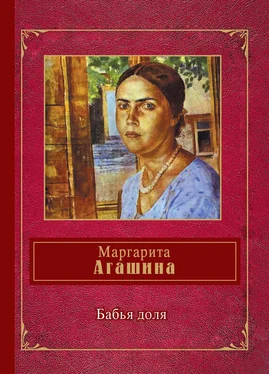Пролетают года,
и рубцуются раны.
Новый май, новый свет над тобой:
всё подъёмные краны,
подъёмные краны
в первомайской ночи голубой.
Там, где краны
сверкали огнями высоко,
где строители шли на леса, —
мирный свет волгоградских
распахнутых окон
далеко над землей разлился.
Город наш,
ты – живое дитя человека.
Ты – наш сын,
наш товарищ,
наш брат.
Здравствуй,
май середины двадцатого века!
С Первомаем тебя,
Волгоград!
1962
Я здесь бывала. Всё мне здесь знакомо.
И всё же через грохот заводской
меня ведёт товарищ из завкома
и откровенно сетует с тоской:
– Вот, вроде бы, и вы не виноваты,
и мы, опять же, тоже ни при чем.
Людей, конечно, будет маловато:
стихи! Не понимают нипочём!..
Завод гудел. Дышал единым духом.
Вздымались трубы в огненной пыли.
А он всё шёл и всё бубнил над ухом,
что «люди до стихов не доросли»,
что «молодёжь и в клубе-то нечасто»,
что «ей бы лишь плевать бы в потолок»…
Мы наконец приходим на участок
и смотрим: полон красный уголок!
Сидят ребята – парни и девчонки —
от сцены до последнего ряда!
Попутчик мой в восторге снял кепчонку
и, подмигнув, сказал:
– Вот это да!
…Ах, это состоянье боевое,
когда стихи свои – на суд людской!
Зал был со мной. Но в зале было двое,
колдующих над шахматной доской.
Я понимала: время перерыва,
у них обед и им не до меня.
И вот один из них неторопливо
берёт за гриву белого коня.
Что ж, обижаться тут не полагалось,
но и сдаваться мне не по нутру.
Как я старалась, как я добивалась,
чтобы ребята бросили игру!
Уже в блокноте зримо и весомо,
моим успехом удовлетворён,
поставил птичку деятель завкома,
такую же бескрылую, как он.
Уже девчонка на скамейке левой
платок искала, мелочью звеня.
А те, как пешкой, крутят королевой
и всё равно не смотрят на меня.
По клеткам кони скачут угловато
и царственно шагают короли.
И я одна на свете виновата,
что двое до стихов не доросли!
Меня упрямой называли с детства,
но не упрямство вспыхнуло в крови,
напомнив мне испытанное средство…
И я читаю только о любви.
Не знаю, может, правда столько было
в стихах любви, и счастья, и тоски,
а может, просто – я тебя любила…
Но парни оторвались от доски!
…Я уходила от ребят в восторге,
читателя почувствовав плечом.
Неужто скажут завтра
в книготорге: – Стихи!
Не покупают нипочем!
1962
«У смерти тоже есть свои порядки…»
У смерти тоже есть свои порядки.
Ну что ж, умру когда-нибудь и я.
Меня положат в зале «Волгоградки» —
тогда уж воля будет не моя.
И кто-нибудь, всегда на всё готовый,
создаст двухцветный траурный уют
и с чувством скажет горестное слово
по принципу – «лежачего не бьют».
И все узнают, как жила я мало,
как я ещё бы – жить да жить могла,
какие я «шедевры» написала,
какая я «хорошая» была!..
Ах, щедрый автор смертных приговоров,
он так доволен – речи вопреки, —
что я ушла в дорогу, о которой
не пишут путевые дневники.
Что от плохих стихов не затоскую,
что на собраньях слова не прошу
и никого-то я не критикую,
убийственных рецензий не пишу!
Не верьте тем, кто скажет надо мною
высокие надгробные слова!
Какой была – а я была иною, —
сама скажу, покуда я жива.
А я – как все: и плакала, и пела,
стыдилась плакать и любила петь.
А я гораздо больше не успела,
чем было мне доверено успеть.
Я жизнь люблю. Я, и прощаясь с нею,
ищу дорог и радуюсь весне!
А жить стараюсь проще и честнее,
чем после смерти скажут обо мне.
1962
Когда, чеканный шаг ровняя,
идут солдаты на парад —
я замираю, вспоминая,
что был на свете мой солдат.
…Война. И враг под Сталинградом.
И нету писем от отца.
А я – стою себе с солдатом
у заснежённого крыльца.
Ни о любви, ни о разлуке
не говорю я ничего.
И только молча грею руки
в трёхпалых варежках его.
Потом – прощаюсь целый вечер
и возвращаюсь к дому вновь.
И первый снег летит навстречу,
совсем как первая любовь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу