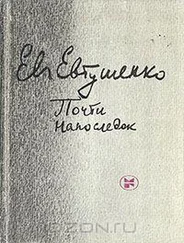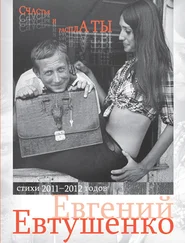скрывать за брызгами лицо.
В метро, трамвае, фаэтоне,
в такси гонялся я за ним.
За жабры брал в ночном притоне,
но ускользал он по-тритоньи,
неуловим, необъясним,
и на асфальте и бетоне
у Рима, словно акатоне,
почти вымаливал я Рим.
Но слишком я спешил, пожалуй,
в нетрезвой скорости пожарной,
что внешне трезвости мудрей.
179
Но тупики, руины, свалки
по доброте вставляли палки
в колеса резвости моей.
Я брел в растерянности жалкой.
Гигантской соковыжималкой
гудела жизнь. Я был смятен.
Вокруг бежали и стояли,
лудили, клеили, паяли,
чинили зубы и рояли,
штаны, ботинки и мадонн.
В уборных грязные обмылки
хранили тайны сотен рук.
У баров битые бутылки,
как Рима скрытые ухмылки,
косясь, осклабливались вдруг:
«Смотри, в такой камнедробилке
тебе, что камешку, — каюк...»
Кричал неон: «Кампари-сода!»
В тазу детей купали. Сохла
афиша биттлов. Капли сонно
с белья стекали у стены.
И вкрадчивые, как саперы,
японцы щупали соборы
то с той, то с этой стороны.
Все на детали разлезалось,
несовместимые, казалось,
но что-то трезво прорезалось,
связуя частности в одно,
когда в лавчонках над вещами
180
бесстрастно надписи вещали:
«Уценено! Уценено!»
На книжках, временем казненных,
на залежавшихся кальсонах,
на всем, что жалко и смешно,
на застоявшихся буфетах,
на зависевшихся портретах:
«Уценено! Уценено!»
Я замирал, и сквозь рекламы,
как будто сквозь игривый грим,
облезлой львиной гривой драмы
ко мне проламывался Рим.
И мне внезапно драма Рима
открылась в том, что для него,
до крика сдавленного, мнима
на свете стоимость всего.
Постиг он опытом арены
и всем, что выпало затем,
как перечеркивались цены
людей отдельных и систем.
И, дело доброе содеяв,
он проставляет сам давно
на всех зазнавшихся идеях:
«Уценено! Уценено!»
И если кто-то себе наспех
вздувает цену неумно,
то Рим уже предвидит надпись:
«Уценено! Уценено!»
181
И часто я вижу,
безграмотный правнук,
что точка опоры неправды —
на правде,
как точка опоры сверхмодных ракет,
она на твоих чертежах,
Архимед.
Идея твоя, быть может, чиста,
Архимед,
нечисто она передернута.
Порою мне снится —
Земли уже нет,
настолько она перевернута.
Ты должен был,
все предугадывая,
опомниться как-нибудь
и точку опоры,
проклятую,
на Землю
перевернуть!
Дайте мне солнца,
зелени,
свежего ветра струю,
дайте нормальную Землю,
не перевернутую!..
БАНАЛЬНО
ВЕРУ В ЖИЗНЬ ТЕРЯТЬ
IV
ПОКА УБИЙЦЫ ХОДЯТ ПО ЗЕМЛЕ..
(Монолог Тиля Уленшпигеля)
Я человек — вот мой дворянский титул.
Я, может быть, легенда, может, быль.
Меня когда-то называли Тилем,
и до сих пор — я тот же самый Тиль.
У церкви я всегда ходил в опальных
и доверяться богу не привык.
Средь верующих — то есть ненормальных
я был нормальный — то есть еретик.
187
Я не хотел кому-то петь в угоду
и получать подачки от казны.
Я был нормальный — я любил свободу
и ненавидел плахи и костры.
И я шептал своей любимой — Неле
под крики жаворонка на заре:
«Как может бог спокойным быть на небе,
пока убийцы ходят по земле?»
И я искал убийц... Я стал за бога.
Я с детства был смиренней голубиц,
но у меня теперь была забота —
казнить своими песнями убийц.
Мои дела частенько были плохи,
а вы торжествовали, подлецы,
но с шутовского колпака эпохи
слетали к черту, словно бубенцы.
Со мной пришлось немало повозиться,
но не попал я на сковороду,
а вельзевулы бывших инквизиций
на личном сале жарятся в аду.
Я был сожжен, повешен и расстрелян,
на дыбу вздернут, сварен в кипятке,
но оставался тем же менестрелем,
шагающим по свету налегке.
Меня хватали вновь, искореняли.
Убийцы дело знали назубок,
как в подземельях при Эскуриале
в концлагерях, придуманных дай бог!
188
Гудели печи смерти, не стихая.
Мой пепел ворошила кочерга.
Но, дымом восходя из труб Дахау,
Живым я опускался на луга.
Смеясь над смертью — старой проституткой,
я на траве плясал, как дождь грибной,
с волынкою, кизилового дудкой,
с гармошкою трехрядной и губной.
Качаясь тяжко, черные от гари
по мне звонили все колокола,
не зная, что, убитый в Бабьем яре,
я выбрался сквозь мертвые тела.
И, словно мои преданные гёзы,
Читать дальше