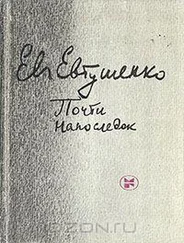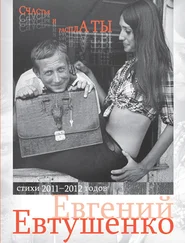ютясь, как в ссылке, в дебрях партитур
из-за того, что про нее когда-то
надменно было буркнуто: «Сумбур...»
И тридцать лет почти пылились ноты,
и музыка средь мертвой полутьмы,
распятая на них, металась ночью,
желая быть услышанной людьми.
Но автор ее знал, наверно, все же,
что музыку запретом не запрешь,
что правда верх возьмет еще над ложью,
взиравшей подозрительно из лож,
что, понимая музыки всю муку,
ей, осужденной на небытие,
народ еще протянет свою руку
и вновь на сцену выведет ее.
Артисты улыбаются устало.
Зал рукоплещет стоя. Все слились.
196
И вижу я в аплодисментах зала
особый смысл, глубокий, вещий смысл.
Но возвратимся к опере. На сцене
стоит очкастый человек — не бог.
Неловкость — в пальцев судорожной сцепке
и в галстуке, торчащем как-то вбок.
Неловко он стоит, дыша неровно.
Как мальчик, взгляд неловко опустил.
И кланяется тоже так неловко.
Не научился. Этим победил.
13* Е. Евтушенко
197
Банально веру в жизнь терять, —
так лучше будем не банальны!
Пусть подлецы или болваны
порочат всяческий талант!
Пусть хлеб вчерашних истин черстй!
Пусть, оптимизмом брызжа, перья
внедряют яростно безверье!..
Им помогать? На кой нам черт!
Давайте верить им назло.
Как надо верить, им покажем
и этой верою докажем,
что крупно им не повезло.
Всегда снедаем страхом тот,
кто весь во власти лицемерья,
уж ни во что давно не веря,
о правоверности поет.
Душа его темным-темна.
Когда он веру в ком-то видит,
ее старается он выбить,
в ней смерть его затаена.
И, ежась внутренне тайком,
грозя принять крутые меры,
в уже облезшей маске веры
грозит безверье кулаком.
НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ
На танцплощадке станции Клязьма,
именуемой «пятачком»,
танцует девочка высокого класса
с подобающим пиджачком.
Что мне делать с этим парнишкой,
с его модной прической парижской,
с его лбом без присутствия лба,
с его песенкой «Али-баба»?
Что мне делать с этой девчонкой,
с ее узкой,
приклеенной челкой?
Что скажу?
Назову их «стилягами»?
Или просто сравню их с телятами?
Или,
полный презренья усталого,
поясню:
«Пережитки старого...»
А парень ходит и в ус не дует
и ногами о времени думает.
13**
199
Не пойму,
не пойму я многого
и смотрю в щемящей тоске,
как танцуют пережитки нового
возле Клязьмы на «пятачке».
злость
Мне говорят,
качая головой:
«Ты подобрел бы...
Ты какой-то злой...
Я добрый был.
Недолго это было.
Меня ломала жизнь
и в зубы била.
Я жил
подобно глупому щенку.
Ударят —
вновь я подставлял щеку.
Хвост благодушья,
чтоб злей я был,
одним ударом
кто-то отрубил!
И я вам расскажу сейчас о злости,
о злости той, с которой ходят в гости,
и разговоры чинные ведут,
и щипчиками сахар в чай кладут.
Когда вы предлагаете мне чаю,
я не скучаю —
я вас изучаю,
201
из блюдечка я чай смиренно пью
и, когти пряча,
руку подаю...
И я вам расскажу еще о злости...
Когда перед собраньем шепчут:
«Бросьте..
Вы молодой,
и лучше вы пишите,
а в драку лезть покамест не спешите», —
то я не уступаю ни черта!
Быть злым к неправде — это доброта.
Предупреждаю вас:
я не излился.
И знайте —
я надолго разозлился.
И нету во мне робости былой.
И —
интересно жить,
когда ты злой!
НЕЖНОСТЬ
Где и когда это сделалось модным:
«Живым — равнодушье,
внимание — мертвым»
Люди сутулятся,
выпивают.
Люди один за другим выбывают,
и произносятся для истории
нежные речи о них —
в крематории...
Что Маяковского жизни лишило?
Что револьвер ему в руку вложило?
Ему бы —
при всем его голосе,
внешности —
дать бы при жизни
хоть чуточку нежности.
Люди живые — они утруждают.
Нежностью только за смерть награждают.
203
НЕФЕРТИТИ
Как ни крутите,
ни вертите —
существовала Нефертити.
Она когда-то в мире оном
жила с каким-то фараоном,
но даже, если с ним лежала,
она векам принадлежала.
И он испытывал страданья
от видимости обладанья.
Носил он важно облаченья.
Произносил он обличенья.
Он укреплял свои устои,
но, как заметил Авиценна,
в природе рядом с красотою
любая власть неполноценна.
И фараона мучил комплекс
неполноценности...
Он комкал
салфетку мрачно за обедом,
Читать дальше