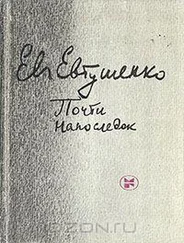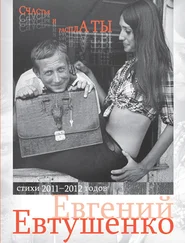педерастов разрешите мне поднять первый тост за
женщин. Пусть вас не удивляет этот тост, синьоры.
При всех их физических и моральных недостатках
женщины необходимы для того, чтобы рождать
нас, педерастов. Итак — за женщин!»
«Мой друг, скажи, к чему писать стихи
среди распада страшного? Не знаю.
Как этот мир сурово ни стыди,
не устыдится. Предан стыд, как знамя.
Спасение в стыде, но он забыт,
и мне порою хочется воскликнуть:
«О где же, человечество, твой стыд —
единственный твой двигатель великий?
Вокруг бесстыдство царствует в ночи,
а чувства и мельчают и увечатся, —
лишь пьяниц жилковатые носы
краснеют от стыда за человечество...» —
«Постой, постой... Твой горький монолог
уже стихи... Писать их, значит, стоит.
157
А не захочешь — так заставит бог,
который в нас, несовершенных, стонет.
Да, стыд забыт, — вернее, он притих,
но только сокрушаться не годится.
Ведь ты стыдишься! Почему в других
потеряна способность устыдиться?!
Бездейственно следить чужой разврат
не лучше откровенного разврата,
и, проклиная свысока распад,
мы сами — составная часть распада.
Ну, а тебе не кажется, мой друг,
что, зренье потерявши от испуга,
мы в замкнутый с тобой попали круг,
не видя мира за чертою круга?
Но есть совсем другие круги, есть
и в этот миг — нетронуто, старинно —
любовь, надежда, доброта и честь
идут, для нас незримые, по Риму.
Они для нас, как мы для них, — в тени.
Они идут. Как призраков, нас гонят.
И может, правы именно они
и вечны, словно Вечный этот город». —
«Забыли нас, любимый мой.
Из парка все ушли домой,
и с чертового колеса
стекли куда-то голоса.
Механик, видно, добрый был —
на землю нас не опустил.
Остановилось колесо.
Забыли нас... Как хорошо!
Внизу наш бедный гордый Рим,
любимый Рим, проклятый Рим.
Не знает он, что мы над ним
в своей кабиночке парим.
Внизу политики-врали,
министры, шлюхи, короли,
чины, полиция, войска —
какая это все тоска!
Кому-то мы внизу нужны,
и что-то делать мы должны.
Спасибо им, что хоть сейчас
на небесах забыли нас.
Чуть-чуть кабиночку качни
и целовать меня начни,
не то сама ее качну
и целовать тебя начну».
Постой, война, постой, война...
Да, жизнь, как Рим, — она страшна,
но жизнь, как Рим, она — одна...
Постой, война, постой, война...
КОЛИЗЕЙ
Колизей,
я к тебе не пришел, как в музей.
Я не праздный какой-нибудь ротозей.
Наша встреча
как встреча двух старых друзей
и двух старых врагов,
Колизей.
Ты напрасно на гибель мою уповал.
Я вернулся,
тобою забыт,
как на место,
где тысячи раз убивал
и где тысячи раз был убит.
Твои львы меня гладили лапами.
Эта ласка была страшна.
Гладиатору —
гладиаторово,
Колизей,
во все времена.
Ты хотел утомленно,
спесиво,
чтобы я ни за что
ни про что
погибал на арене красиво,
но красиво не гибнет никто.
И когда,
уже копьев не чувствуя,
падал я,
издыхая, как зверь,
палец,
вниз опущенный,
чудился
даже в пальце,
поднятом вверх.
Я вернулся, как месть.
Нету мести грозней.
Ты не ждал, Колизей?
Трепещи, Колизей!
И пришел я не днем,
а в глубокой ночи,
когда дрыхнут все гиды твои —
ловкачи,
а вокруг только запах собачьей мочи,
и жестянки,
и битые кирпичи,
но хоть криком кричи,
но хоть рыком рычи,
в моем теле
ворочаются
мечи,
и обломки когтей,
и обломки страстей...
Снова слышу под хруст христианских костей
хруст сластей на трибунах в зубах у детей...
Колизей,
ты отвык от подобных затей?
Что покажешь сегодня ты мне,
Колизей?
11 Е. Евтушенко
161
Рыщут крысы непуганые
среди царства ночного, руинного.
Педерасты напудренные
жмут друг дружку у выхода львиного.
Там, где пахнет убийствами,
где в земле — мои белые косточки,
проститутка по-быстрому
деловито присела на корточки.
Там, где мы, гладиаторы,
гибли, жалкие, горемычные,
кто-то в лица заглядывает:
«Героинчик... Кому героинчика?»
Принимай,
Колизей,
безропотно
эту месть
и судьбу не кори.
Постигает всегда бескровие
все, что зиждется на крови.
Но Скажу,
Колизей,
без иронии —
я от страха порой холодею.
Только внешнее безнероние
в мире этом —
сплошном Колизее.
Расщепляют, конечно, атомы,
забираются в звездный простор,
Читать дальше