Точка перетекания
из реальности в сон,
из фантазии в воплощение,
в стены, в дом.
Точка перетекания
из сумрака в теплоту.
Как мне пройти тебя?
На каком переплыть плоту?
Прозрев от крика детского
толпа вопила: «Гол!»
На короля, одетого
в невидимый камзол.
И никуда не деться мне
от правоты людской,
вживаясь в стены фресками,
сливаясь с их тоской.
Но я храню молчание
и, слыша детский крик,
немею от отчаянья,
к которому привык.
А если все, что есть —
он самое и есть?
Он сам себя и ест.
Он сам себя и дышит.
Он сам себе поет
и письма ночью пишет
о том, что он сидит
один не зная гдемо ,
сердит и нелюдим,
как лермонтовский Демон.
Тут без Тамары как?
Тамарка без Кавказа?
Казалось бы, пустяк,
а мысль, она – зараза,
начнется с запятой
и длится всем на свете.
И никакой чертой!
И ни в какие клети!
Тело как тормоз,
как подведение итога,
тело как компас,
ведущий бродяжить Бога,
чтоб осмотреться, потрогать,
скрутиться в страсти,
чтобы сложившись в тело,
разбиться опять на части,
чтобы развеять мрачных прогнозов страхи,
что бы над черной сценой,
словно верхом на плахе,
в холщевой парить рубахе,
свет пропуская в дырки,
спичкой чертя на чирке,
искрами рикошетя,
точно в кого-то метя.
Не нужно райских островов —
нам хватит лежаков на пляже,
и нарисованных на саже
веселой Африки белков.
Одной фигуры бедуина
в пустынно синем Пикассо.
Собаки сгорбленную спину.
Вечерней вечности лассо.
Всех египтянских рынков запах,
впитавший рыбу всех морей,
пиратских подвигов и страхов,
колец, торчащих из ноздрей.
Всех пирамид и минаретов,
всех куполов, кубов, крестов.
Шел караван земных поэтов,
не оставляющий следов.
В кофейно-позолоченном Египте,
у волосатых ног высоких пальм
вы ничего, наверно, не хотите,
и ничего вам, в общем-то, не жаль.
Такие ноги, Господи, что море
краснеет, не дотронувшись песка.
Вы говорите, что бывает горе?
Что гложут вас печали и тоска?
Египетские ночи шоколадны,
в тенях прибрежных шелестит гашиш,
по набережным лучшие наряды
разбрасывают Лондон и Париж.
Здесь голышом, забыв про минареты
и острый блеск арабских хищных глаз,
распутницы, художники, поэты
бегут по пляжу, как в последний раз.
Нам жизнь без трагедии скучна.
Ирония растворена в сатире.
И не бывает горя от ума,
как войн, злодейств
и мудрых харакири.
Свет равновесий выверен и строг,
не оставлет права на несчастье:
как может быть несчастен лепесток,
являющийся маленькою частью
гармонии,
пустившей корень в гной,
чтоб выпестовать капельку нектара.
Трагедия – пытаться стать собой
и не принять Божественного дара.
Руку на пульсе мысли
держал, как его там, Бах.
Или, точнее, Моцарт,
Свиридов, Бетховен, Шуберт…
Сердце на пульсе мысли
билось, как на подносе.
Обрезанные аорты
жадно глотали воздух.
Кто обвинит слепого, если он
наступит на подснежник синеглазый
и скажет, что цветы растут из вазы,
а ствол кленовый пахнет соловьем?
Есть ли вина в пристрастьях папуаса,
живущего в болотах, меж лиан,
в том, что он любит человечье мясо,
а чужеземец слаще, чем варан?
В чем ошибались патриоты рейха?
В чем были правы дети кумача?
И чем добрее золотая змейка
ужаленного ею палача?
В незрячем мире между полюсами
есть равновесие таинственных основ:
открыв глаза, мы выбираем сами,
куда идти из хаотичных снов.
Пока ты слеп – нет ни суда, ни воли;
безгрешен, словно волк или овца.
Открыв глаза, ты выбираешь роли
героя, негодяя и творца.
И здесь уже не спрятаться в тумане,
не отступить за заповедный круг,
ты знаешь все о правде и обмане —
ни боль разлуки, ни святой испуг
не оправдают позабытых реплик.
И тут уже, хоть выколи глаза,
в тебе убит обыкновенный смертник,
и суд суров, и всюду небеса.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
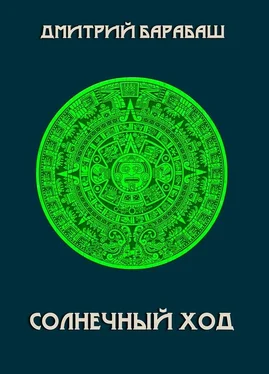





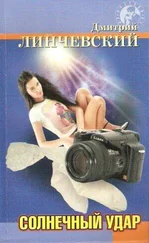

![Дмитрий Самохин - Солнечная Казнь [litres]](/books/409854/dmitrij-samohin-solnechnaya-kazn-litres-thumb.webp)


