Из-под простынки, как из кожи,
вылазит человечья плоть.
У всех людей несчастья схожи,
когда не в силах побороть
ленцу дремотную, готовы
плодить чертей, молить еговы,
по струнке думать, складно врать.
И только теплая кровать
нас в лоно счастлива принять,
обнять и разогнать кручины.
За полсекунды пробежав
зрачками по горячим векам,
я сделал подвиг, просто встав,
чтоб стать приличным человеком.
Вот почему не надо брать тетрадей
с заметками, со строчкой, со строфой.
Чтоб каждый раз иначе водной глади
касался луч небесно-золотой,
другая рябь несла шторма́ на парус,
затерянный в пучине мировой,
чтоб каждый раз другой пушился страус,
закапываясь в землю с головой.
И волчий вой у дальнего приступа
сегодня был с ленивой хрипотцой,
чтоб никогда не домолола ступа,
чтоб проскользнуть под хитрой слепотцой.
В час между Тигром и Ефратом
И все-таки рифмы глоток
в машинном отделении жизни,
ветошью на лоток выработанной отчизны.
И все-таки ритм, сбивающий с рельс
солнц промелькнувших колеса,
разбрызгавших золото звезд
в гравий, навоз, просо.
Октава семи сторон
и трех восходящих нитей.
Наитья, вливаясь в литий
и стронций, врезаясь в сон
какого-нибудь Гаити,
в который влюблен Нерон,
Байрона, Чайльд Гарольда,
глумливого Гумилева,
снимавшего сливки с кольта,
и пули вливая в слово,
как форму плавленой речи.
Шагреневая – кленово
растянута в междуречье,
где Тигр ласкал Евфрата
как младший старшо́го брата.
Начинается ветер
с движения детской руки
или с жаркого шепота губ,
восхищающих ухо.
Только мы от него далеки,
далеки, далеки,
как от белого тополя
клок тополиного пуха.
Как пылинка от пальца,
который рисует круги
на стареющем зеркале,
в доме, лишенном событий.
Мы лежим в желтом устье
с изнанки текущей реки.
Мига хватит, чтоб мы
перестали испытывать грусти.
Мы пытаемся думать о времени,
звездах, творце.
Солнце кажется нам
величайшим и грозным светилой.
И хотим разузнать,
что же с нами случится в конце.
И боимся представить,
с какой состыкованы силой.
Солнце в сметане.
Сияньем востока – на Снежеть.
В русском стакане,
граненом петровской прямой,
кружится медленно
мелкая снежная нежить,
волны седые
играют когтистой кормой.
Топи засохнут когда-нибудь,
выцветет хвоя,
желтым песком захлебнется
глазастая Русь.
В пестром кафтане
восточносибирского кроя,
с уткой пекинской под ручку
какой-нибудь гусь
выйдет на дюну вальяжно
и, щурясь, заметит:
– Где тут те реки, леса те, поля те, теля?
Жизнь продолжается.
Люди как малые дети
на карусели
косели, русели, смуглели,
как на планете,
названье которой Земля.
Кто мы? Какие мы?
Спросите у муравья, у мухи, у рыбы,
глядящей со дна болота,
выпячивая глаза.
Зевота как позолота,
как выдох на образа.
Есть ли у автопилота
лицо, рука, жена?
Как видится все из болота?
Как теплится тишина?
И все-таки капля пота
скатиться со лба должна
даже у автопилота,
когда в глазах тишина
такая, что позолота
до стали обнажена.
Мне говорят: кончай ругать царей.
Да я ведь их ни капли не ругаю.
Я б им своих отсыпал козырей,
но в той игре с моими не канаю.
Я сам бы им задор воткнул в зрачки,
подкинул бы живого интересу.
Значков хотите? Нате вам значки.
И всем деньжищ, какого хочешь весу.
Чтоб только роль унылую свою
они несли, голов с плечей не нуря.
Я даже подсюсюкну, подпою,
строкою неуклюжей подхалтуря.
Но мыслей в те надутые уста
вложить, как ни стараюсь, не сумею.
Я лучше снова улыбнусь с креста
далекой мачты, опершись на рею.
Может быть, не туда я пускаю жизнь?
Может быть, не так расплетаю сети?
Если время ползет, как прозрачный слизень,
истекая нежностью в белом свете
по листу капусты, в росе зарниц,
в перепонках слуха, как тот хрусталик,
зародившийся в красном тепле глазниц,
и увидевший мир расписным, как Палех.
Лопоухий глобус, за ним другой.
По шеренге длинной носами в темя.
И ряды, прогнувшиеся дугой,
огибая землю, смыкают время.
Разорвать бы мне тот капустный круг,
землянично-солнечный и зеленый,
на один единственный сердца стук.
Так подсолнух мысли глядит на звук,
им самим когда-то произнесенный.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
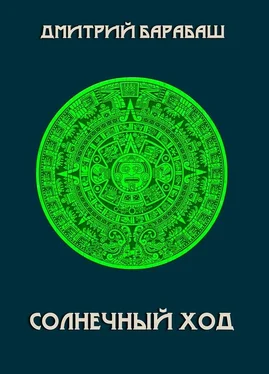





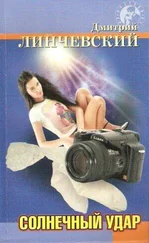

![Дмитрий Самохин - Солнечная Казнь [litres]](/books/409854/dmitrij-samohin-solnechnaya-kazn-litres-thumb.webp)


