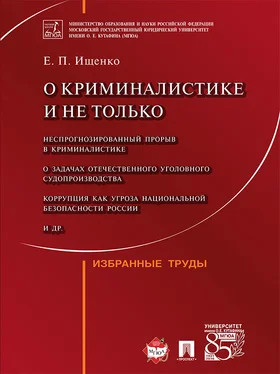На наш взгляд, суд должен осуществлять и олицетворять правосудие. Но насколько он реализует эту свою высокую миссию? В состязательном уголовном процессе суд, разрешающий дело, отделен от сторон. Но суд при этом идейно и не возвышается над ними, поскольку у него нет объективно необходимой цели, которая не сводилась бы к субъективному интересу сторон. Не случайно принцип состязательности (ст. 15 УПК РФ) закрепляет положение о пассивной роли суда по отношению к активности состязающихся сторон. Суд создает формально необходимые условия для состязания и называет победителя, т. е. наиболее ловкого или красноречивого. Может, пора вернуться к ордалиям?
В основе вероятной, юридической, процессуальной истины лежит применение «правдоподобных суждений», «полуколичественных понятий», «фактических презумпций». Ограничиваясь формально-логическими и правдоподобными связями между доказательствами, она требует формализации уголовного судопроизводства, используемых в нем доказательств, отказа от объективной истины, в частности, отношения к собственному признанию обвиняемого как к главному доказательству по уголовному делу. Отсюда вполне оправданы пресловутые «сделки о признании вины».
Глава 40 УПК РФ предусматривает особый порядок принятия судебного решения – вынесение обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства – при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением по делам о преступлениях, наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы. Речь идет о тяжких преступлениях (прежний предел, очерченный УПК, не превышал 5 лет лишения свободы). В этом повышении планки однозначно просматривается тенденция к росту количества сделок о признании вины в обмен на смягчение наказания. Это позволяет заключить, что законодатель руководствуется релятивистским принципом: в уголовном процессе все относительно, допустимо и возможно.
Сделанное обвиняемым признание вины (хотя «признание» может быть и ложным, в частности самооговором) судом не исследуется, не проверяется. Формально достаточно самого факта признания предъявленного обвинения. Тем самым и по тяжким преступлениям суд, по существу, самоустраняется от осуществления правосудия, отдает эту свою исключительную миссию на усмотрение сторон.
Это однозначно свидетельствует об упрощении действующим УПК уголовно-процессуальной процедуры. Но есть ли предел такому «усовершенствованию» путем упрощения уголовного процесса? Ведь правосудный процесс может легко превратиться в неправосудный, а защита прав личности – в их попрание. С потерпевшими это происходит сплошь и рядом, но речь не о них.
«Сделка», несомненно, нарушает права личности. Эти права ограничиваются хотя бы тем, что по условиям «сделки» от обвиняемого (в обмен на смягчение наказания) всегда требуется признание своей вины. И если признание получено, то дальнейшее исследование автоматически прекращается, а решение принимается на основе «сделки». Объективное исследование обстоятельств дела признается ненужным. Формальная истина вполне годится вместо истины объективной.
В основе таких сделок лежит концепция взаимоуступок, компромисса. Но допустим ли компромисс правоохранительных органов в борьбе с преступностью? И в чьих он интересах?
При «сделке», безусловно, извращаются и демократические принципы уголовного процесса. Так, вопреки презумпции невиновности, обвиняемый сразу переводится в разряд преступников; на него перекладывается бремя доказывания; забывается правило о том, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. Признание обвиняемым своей вины формально становится главным, решающим доказательством, и, стало быть, совокупности уличающих или оправдывающих доказательств не требуется.
И никого не смущает, что органы следствия и суда занижают свои цели, опускаются до уровня «сделки» с обвиняемым в прагматических интересах выгоды, «ускорения», «удешевления» расследования и судебного разбирательства. Ключевой вопрос: действительно ли виновен человек, признавший свою вину, – в «сделке» отодвигается на второй план. В суде проверяется добровольность признания, а не его истинность. В итоге получаем реализацию принципа, сформулированного еще Игнатием Лойолой: «Цель оправдывает средства». «Признание» здесь цель, а «сделка» – средство. А результат? Неужели он никого не интересует?
По мнению И. Л. Петрухина, «сделки о признании вины чужды российскому менталитету… В российском уголовном правосудии сделка – явление аморальное, порочное, бесчестное, это торг, компрометирующий власть, свидетельствующий о ее бессилии, неспособности раскрывать преступления… При введении сделок о признании вины возможности для взяточничества и других злоупотреблений многократно возрастут» 210. Ему вторят А. Р. Белкин, А. А. Закатов, П. Михайлов 211.
Читать дальше