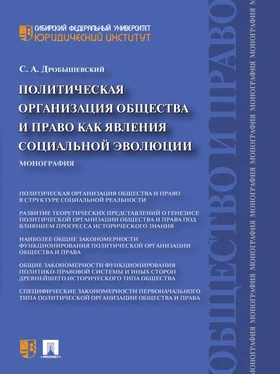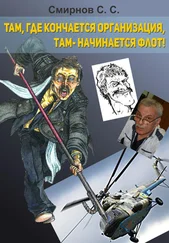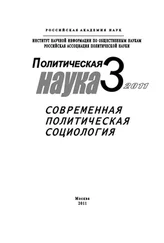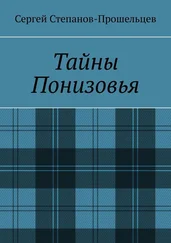Закономерности внутренней и внешней политики в своей совокупности раскрываются в предлагаемых политологами общих теориях политики. На каждой из таких концепций лежит печать исторических условий, в которых она сложилась. В любом случае это обусловливает теоретическое осмысление и внутриполитической, и внешнеполитической деятельности, но не в равной степени. В политиях, вынужденных вести повседневную борьбу за самосохранение с окружающими политическими телами, политологи, как правило, тратят большую часть своих сил на познание природы внешней политики, чем в максимальных политических организациях, на самостоятельность которых другие субъекты межполитийных отношений покушаются нечасто.
Отмеченное обстоятельство сказывается на структуре создаваемых учеными общих теорий политики, а также на самих определениях политического феномена. Так, главной задачей политологов стран Западной и Центральной Европы (за исключением Великобритании), начиная с Н. Макиавелли в XVI в. и кончая К. Шмидтом в XX в., являлось теоретическое осмысление факта постоянной угрозы, потенциальной или реальной, которую в их историческую эпоху каждое континентальное европейское государство представляло для существования своих соседей [52]. Следствием были не только гипертрофия внешнеполитических разделов политологических сочинений, но и использование для выражения сути всякой политической деятельности многочисленных формулировок, обозначающих одно и то же содержание, – «политика как Мы против Других» [53].
Обычно совсем по-другому определяли политику в рассматриваемый исторический период политологи Великобритании. Все они – от Т. Мора в XVI в. вплоть до ученых начала XX в. – в своих теоретических построениях обоснованно исходили из того, что островное положение их государства делало маловероятными попытки иных политий ликвидировать его самостоятельность [54]. В такой обстановке очень многие исследователи политики фокусировали свое внимание не на способах устранения внешней для максимальной политической организации опасности, а на уяснении и возможных путях решения основной проблемы внутриполитической деятельности – недостаточности имеющихся в политическом теле материальных и духовных ценностей для полного удовлетворения нужд его членов. При этом в британских политологических работах политическая организация общества рассматривалась главным образом не в качестве одного из субъектов межполитийных отношений, а как система разделения и кооперации усилий людей по производству и распределению материальных и духовных благ. Политика же чаще всего понималась как конструирование и реализация общеобязательных правил, обеспечивающих осуществление указанных процессов и в конечном счете порядок в пределах суммарной политической организации [55].
Отмеченные различия в теоретическом постижении политики не прошли бесследно для теории государства как политической организации общества. А именно в европейской политологии сложились два типа концепций государства [56]. Для первого из них свойственна разработка государствоведческой проблематики на основе предположения, что характер государства в первую очередь определяется его положением в системе межгосударственных отношений и, в частности, «вытекает из природы участия государства в военной борьбе» [57]. К нему, например, относятся теории государства Гумпловича, Оппенгеймера, Хинтзе и Вебера [58]. Второй тип представлен сочинениями Гоббса, Локка, Маркса, Истона, Поулантзаса и других авторов, убежденных, что специфика государственной организации обусловливается в основном тем, каким образом взаимодействуют населяющие государство разнообразные группы людей, прежде всего классы [59].
Под правом на протяжении всей истории политической мысли самые выдающиеся юристы подразумевали явления общеобязательного нормативного регулирования во всеобъемлющих политических организациях [60]. При этом проблемы нормативного необщеобязательного упорядочения поведения людей в многообразных социальных объединениях, являющихся частями политического тела, в юридической литературе обычно рассматривались при анализе морали [61]. Она же изучалась в юриспруденции лишь в той мере, в какой ее познание способствовало постижению права.
В ходе подобного рода исследований правоведы обратили внимание на ряд общих черт общеобязательного для членов политии нормативного регулирования и разнообразных видов нормативного регулирования, действующего только в пределах сегментов максимальной политической организации [62]. Отсюда некоторыми исследователями был сделан вывод о тождестве очень многих процессов нормативного упорядочения человеческого поведения в суммарной политической организации [63]. Такое заключение было сформулировано как теоретическая позиция о наличии права вне круга явлений общеобязательного нормативного регулирования, хотя и в границах феноменов нормативного регулирования вообще [64]. Одной из ее форм явилось учение о правовом плюрализме – характерном для всякого политического тела присутствии самостоятельной правовой системы в каждой функционирующей в его рамках социальной организации помимо общеобязательной для членов политии системы права [65].
Читать дальше