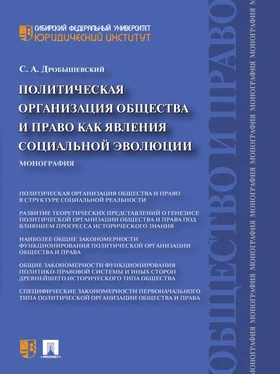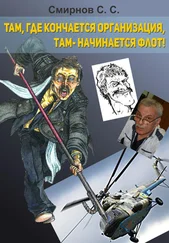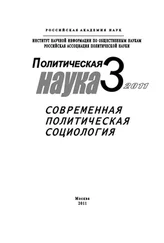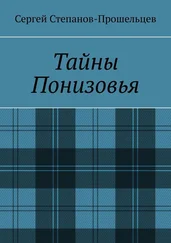Политологи наших дней, как и их коллеги в прошлом, отнюдь не всегда используют перечисленные наименования «политическая организация общества», «государство», «полития» и т. п. для выделения только что охарактеризованной реальности, являющейся предметом политико-юридической науки, из окружающей действительности. Иногда в них вкладывается и иной, более узкий, смысл. Речь идет, в частности, о присутствующих в политологической литературе многочисленных примерах определения как политической организации общества, а также как государства, не любой общественной системы, удовлетворяющей совокупность потребностей объединенных в нее людей с помощью общеобязательного нормативного регулирования, а лишь такой, которая реализует идеи о социальной справедливости, разделяемые авторами соответствующих дефиниций [29]. Однако отказа от научного анализа традиционной для политологических исследований сферы познания это не влечет. Вся она без каких-либо исключений не только категориально оформляется, но и тщательно изучается теми учеными, которые придерживаются описанного «узкого» понимания политической организации общества и синонимичных ей слов и выражений [30].
Для обозначения общественного объединения, удовлетворяющего совокупность нужд своих членов и поэтому существующего территориально и в иных отношениях отдельно и независимо от подобных социальных целостностей, наиболее широко в современных политологии и юриспруденции употребляется термин «государство». В этом значении само «слово “государство” (и его эквиваленты в других языках) было введено в европейский словарь ассоциаций… в XVI веке» [31]. В сложившейся с тех пор теории государства оно обычно характеризуется путем указания на его четыре специфических черты – население, территорию и время функционирования, а также общеобязательное нормативное регулирование [32]. К населению государства относятся объединенные в него люди. Занимаемая государством территория представляет собой не только ограниченную государственными границами часть земной и водной поверхности, но и пространство под и над ней. Население государства распоряжается разнообразными природными объектами, которые здесь находятся. В связи с тем, что государственная организация не имеет вневременного существования, время функционирования государства характеризует его не в меньшей мере, чем занимаемая им территория. Наконец, государству присущи нацеленные на удовлетворение совокупности потребностей его населения общеобязательные социальные нормы. «И точно так же, как существование любого государства в пространстве есть пространственная сфера их действия, существование государства во времени есть временная сфера действия этих правил» [33]. Если же вслед за М. Вебером «мы зададим вопрос, что в эмпирической действительности соответствует идее “государства”, то обнаружим бесконечное множество диффузных и дискретных действий… либо единичных по своему характеру, либо регулярно повторяющихся» [34].
В XVIII в. в Европе, за исключением Великобритании, получило распространение и понимание государства как системы органов в политическом теле, формулирующих и обеспечивающих реализацию общеобязательных социальных норм [35]. При такой интерпретации понятия государства оно оказалось лишенным большей части традиционно вкладывавшегося в него содержания. В частности, государством не охватывалось так называемое «гражданское общество» – совокупность организаций политии, занимающих промежуточное положение между ее общеполитийными руководящими структурами, т. е. органами, осуществляющими общеобязательное нормативное регулирование, с одной стороны, и отдельными людьми – с другой [36]. С тех пор вот уже два века в политологии и юриспруденции интенсивно применяются широкая и узкая трактовки государства [37]. Они соотносятся как целое и его часть [38]. Причем только первая из них выражает тот факт, что «“ткань государственного бытия” слагается из… жизни всех его граждан» [39], что «государство не есть какая-то отвлеченность, носящаяся над гражданами», а «состоит из народа» [40].
Небезынтересен вопрос, почему «узкое» понимание государства распространилось в Европе XVIII в. не повсеместно. При ответе на него, возможно, надо иметь в виду, что в XVIII в. в континентальных европейских странах с абсолютистскими политическими режимами внешние по отношению к государственному аппарату «нажимы» на него при формулировании им и проведении в жизнь общеобязательных социальных норм реально имели на порядок меньшее значение, чем в Великобритании. Иными словами, системы органов абсолютистских европейских государств функционировали гораздо более автономно от сил «гражданского общества», чем государственный механизм Великобритании [41]. Такое обстоятельство не могло не учитываться государствоведами и юристами соответствующих стран, отражавшими его в своих определениях рамок политической жизни общества, его политической организации и, естественно, государства как политической организации общества.
Читать дальше