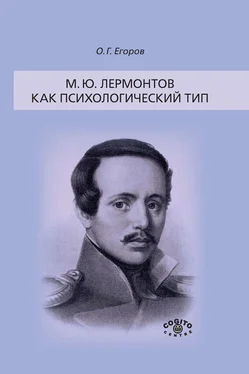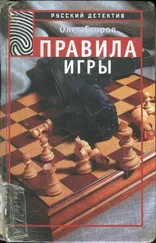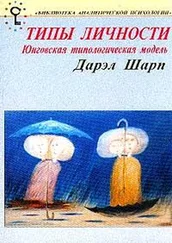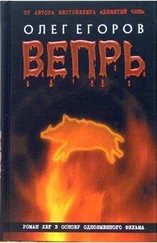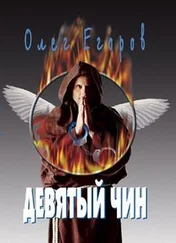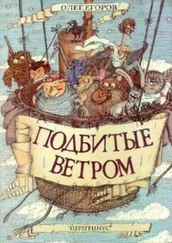Детские впечатления Печорина не ограничиваются исключительно душевными конфликтами. Из детства герой вынес и представления о своей социальной роли. Тот факт, что Печорин, подробно останавливаясь на дурных последствиях воспитания, не упоминает о родителях, является показательным. Он не фиксирует на родителях свои невротические симптомы. Это дает основание предполагать раннее освобождение героя от их влияния, ранний разрыв семейных уз. Но свобода не приводит героя к психологическому оздоровлению. Разрыв произошел, вероятно, до завершения процесса индивидуации (психологического самоосуществления), скорее всего на его первичной стадии. Вместо того чтобы в процессе прохождения длительного пути психологического самоосуществления постепенно и безболезненно освободиться от психологической зависимости от родительского авторитета и одновременно приспособиться к жизни в обществе, к его требованиям и обязанностям, Печорин, вследствие резкого разрыва, получает душевную травму, которая навсегда закрепляет в его сознании образ семьи как миниатюрной модели общественного организма, к которому надо вставать в такую же позицию, как и к семье. В этом кроется причина постоянного бегства Печорина от общества и понимания его как деспотического и враждебного свободной индивидуальности устройства. Как в душевной жизни психическая энергия героя искала обходные пути и тем самым приводила к душевным конфликтам, так и в обыденной жизни он стремился к достижению цели в обход общепринятой траектории движения общественного человека. С этой точки зрения композиция романа также отражает искривленность душевного и жизненного пути героя.
К началу сюжетного действия романа руководящая личностная идея Печорина не только сформировалась, но и неоднократно проверялась на практике. Ее сущность заключалась в «желании быть вверху». В психологии неврозов «низ» служит проявлением чувства неполноценности, «верх» – ощущением фиктивной конечной цели «… В смене и колебании психических проявлений обнаруживается то „низ“, то „верх“». [550]Следствием петербургских похождений Печорина была его высылка на Кавказ: он оказался «внизу». Но частично это падение было компенсировано. Кавказ, будучи «низом» в социально-иерархическом отношении, является «верхом» в плане географическом. Не случайно в Пятигорске Печорин «нанял квартиру ‹…› на самом высоком месте, у подошвы Машука».
Стремление доминировать, быть «вверху» руководит и отношениями Печорина в любви. Невротик «привносит в любовь старые предрассудки ‹…› и поступает так, как будто любовь должна оберегать защиту его идеи, триумф его взвинченного идеала превосходства, а не подарить новую реальность – дружбу и единство с другой личностью». [551]В дневнике Печорин признается: «А ведь есть необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившейся души! ‹…› Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути…». [552]
«Нервозный человек не способен к ‹подлинной› любви ‹…›, потому что его застывшие готовности служат его фикции, воле и власти, а не социальной жизни» . [553]
Невротический характер Печорина проявляется и в его отношениях с другими главными персонажами его дневника, прежде всего с Вернером и Грушницким. С Вернером Печорин сошелся не потому, что у них много общего, например, в образе мыслей и отношений к «водяному обществу», как утверждает герой. Напротив, они во многом противоположны. Печорин признает, что «к дружбе не способен: из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается» (т. е. один «вверху»). В отношениях с Вернером Печорину принадлежит бесспорное первенство. Он и здесь оказывается «вверху». И выбор Печорина не случаен. Вернер во всем ему уступает: он беден, некрасив, низкого происхождения, растерял клиентуру. Вернер обуреваем той же идеей, что и Печорин, – попасть «наверх». С Печориным он тягаться не может, и это внутренне понимают оба.
С Грушницким Печорин не мог быть в тесных отношениях не потому, что тот ниже его по уму (Печорин признает за ним много достоинств: остроумие, храбрость, добрые свойства души), а Вернер – умнее, а потому, что в обществе Грушницкого он не может первенствовать. В этом он признается с самого начала: «Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда-нибудь с ним столкнемся на узкой дороге, и одному из нас несдобровать».
У Грушницкого много свойств, которых нет у Вернера, но есть у Печорина: привлекательная внешность, высокое происхождение, «занимался целую жизнь одним собой». Даже в речи Печорина и Грушницкого есть одна общая фраза (Печорин: «они ‹жены местных властей› привыкли на Кавказе встречать под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой образованный ум»; Грушницкий: «И какое им ‹московской знати› дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой и сердце под толстой шинелью?»). Грушницкий не позволил бы в дружбе с Печориным оказаться в подчиненном положении, «внизу»; не потерпел бы этого и Печорин. Но с Вернером Печорину не надо соперничать за первенство: Печорин и так почти во всем превосходит его. И слова Печорина о том, что они с Вернером «друг друга скоро поняли и сделались приятелями», нельзя понимать как равенство в отношениях. Печорин и Вернер тяготеют друг к другу как невротические характеры.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу