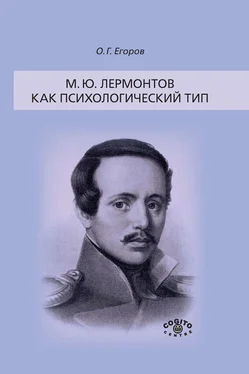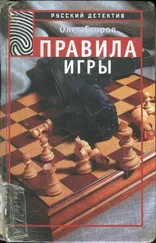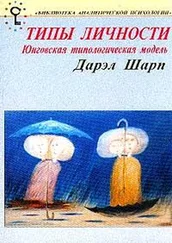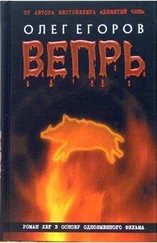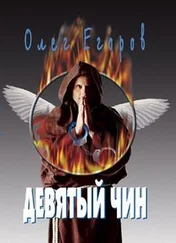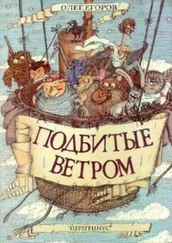Деструктивность поведения Лермонтова объясняется неконтролируемыми и не обузданным со стороны отца стремлением властвовать. И в отрочестве Лермонтов избежал «запретов» отца и сбросил (точнее – не носил) оковы всякого авторитета. «Взрослое состояние достигается, когда сын воспроизводит собственное детство, подчиняя себя отцовскому авторитету – либо в психологической форме, либо фактически, в спроецированной форме ‹…›» [205]Домашняя вольница обернулась уже в ближайшей социальной инстанции жизнеопасным и травмирующим конфликтом («вы способны резаться с первым»).
Установление запретов является важным шагом в развитии личности. Они помогают молодому человеку, вступающему «в жизнь», быстрее адаптироваться к условиям и требованиям социума. Наличие запретов служит гарантией от конфликтов между влечениями и требованием новых социальных норм. Но запреты может выработать только полноценная семья. «Бабушкино воспитание» нарушило естественный ход психологической идентификации с отцом и размыло представление о реалистических запретах. Этот изъян воспитания повлиял и на структуру базального конфликта и весь образ поведения Лермонтова при его вступлении в «большой свет». Ведь «первоначально ребенок ‹…› желает делать то, что делают родители ‹…› Если дети хотят идентифицироваться с родителями, они также хотят идентифицироваться с их стандартами и идеалами. Запреты принимаются как часть, соответствующая стандартам и идеалам. Стремление чувствовать свое сходство с родителями облегчает усвоение запретов. Реальная идентификация с запретами становится замещением намеренной идентификации с родительской деятельностью». [206]
Здесь мы вступает в область базального конфликта, в значительной степени определившего судьбу Лермонтова. С нашей точки зрения, он возник еще в домашнем кругу, до поступления поэта в Университетский пансион. У конфликта было три источника: семейная драма, условия воспитания и неадекватная реакция юноши Лермонтова на социальные вызовы. Как видно, все они взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Для того чтобы успешно социализироваться, Лермонтов в ранней юности должен был пройти через внутреннюю борьбу и затратить на нее большие душевные силы. Часто работа этих сил была контрпродуктивна. Лермонтов поддерживал в себе властные и эгоистическо-нарциссические инстинкты, отягченные сознанием физического несовершенства. И уже накануне выхода в большой мир (университет, юнкерская школа, светское столичное общество) он оказался зажатым между двумя полюсами – чувством неполноценности и потребностью признания . Эту коллизию его сознания верно подметила его дальняя родственница В. И. Анненкова: «У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания ‹…› Он не мог успокоиться оттого, что не был красив, пленителен, элегантен. Это составляло его несчастие. Душа поэта плохо чувствовала себя ‹…›» [207]Правда, здесь мемуаристка отметила только одну сторону его уязвленного самолюбия, не зная о его социальных притязаниях.
Лермонтов постоянно рвется из замкнутого круга домашней жизни («Мне нужно действовать», «Как я рвался на волю, к облакам!»). Его тяготит дремотная скука жизни в теплом семейном гнезде, в этой «универсальной среде пережитого» (Ж. П. Сартр). Базальный конфликт встречается здесь с природной закономерностью юношеских притязаний. «‹…› Все молодые люди скучают: им бы хотелось бежать за моря ‹…› биться ‹…› – они торчат в четырех стенах ‹…› в церемониальной вселенной повторения: одни и те же воспоминания, те же шутки, те же игры. Невозможный поступок открывает перед ними ‹…› случайность ‹…› домашней обстановки, занятий: жить – это истекать кровью ‹…›» [208]
Первоначально этот порыв вовне, «на волю» выражается в постоянной смене занятий, в желании разнообразия, которое, как кажется, скрасит однообразие текущей жизни и хоть как-то удовлетворит растущие притязания. «Лермонтов ‹…› в молодости в особенности постоянно искал новой деятельности и, как говорил, не мог остановиться на той, которая должна бы его поглотить всецело ‹…›», – вспоминал А. А. Лопухин. [209]Но уже в драме «Странный человек» Лермонтов расценивает это свойство характера Владимира Арбенина – своего alter ego – не как достоинство, а как недостаток: «Ум язвительный и вместе глубокий, желания, не знающие никакой преграды, и переменчивость наклонностей – вот что опасно ‹…›» [210]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу