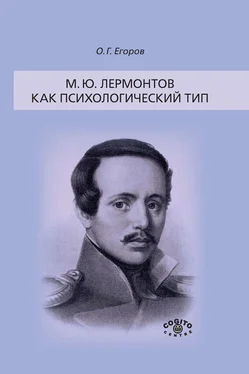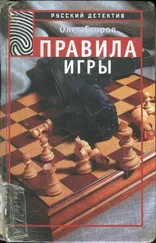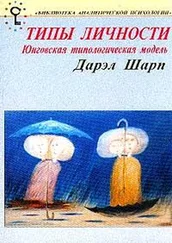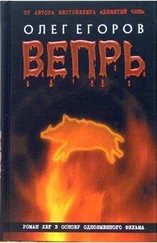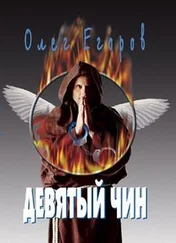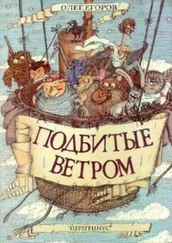Вступив в новый, широкий жизненный круг, Лермонтов не смог отказаться от своих детских амбиций и скорректировать линию поведения. Он не укротил властных стремлений, но лишь придал им другую форму. Это вызвало непонимание и неприятие со стороны его нового окружения. «Вообще в пансионе товарищи не любили Лермонтова за его наклонность подтрунивать и надоедать», – вспоминал его однокашник Н. М. Сатин. [211]Эта особенность творческих натур подкреплялась в нем семейным воспитанием. «‹…› У дарования есть тот моральный недостаток, – делился своими наблюдениями К. Г. Юнг, – что оно вызывает у своего обладателя чувство превосходства и вместе с тем определенную инфляцию, которую следовало бы компенсировать путем соответствующего смирения. Однако одаренные дети часто избалованы и ожидают поэтому исключительного отношения к себе». [212]
Переход из мира детства во взрослый мир не был подготовлен семьей. Его «воспитательница» бабка, как заботливая нянька пичкавшая его всеми сладостями жизни, не взрастила в нем «чувство реальности», которое является органической необходимостью переходного возраста. Именно в этот период психологическая целостность индивида приносится в жертву в целях приспособления к ценностям коллектива. «От принципа удовольствия к принципу реальности ‹…› от любимчика матери к ученику ‹…› Устойчивая утрата живости чувств и спонтанных реакций в интересах „благоразумия“ и „хорошего поведения“ – это движущий фактор поведения, которое требуется теперь от ребенка по отношению к коллективу». [213]
Лермонтов не выполнил этого требования индивидуации и вошел в большой мир со всеми инстинктами детского и подросткового возраста. Он еще долго находился под негласной, а порой и под гласной опекой бабушки, следившей за каждым его шагом и потакавшей его деревенским привычкам. Социопсихологическая структура домашнего быта была перенесена почти без корректировки на социум сложного городского коллектива. Это не могло не вызвать резких столкновений психологического порядка и способствовало образованию устойчивых фрустраций, и – как следствие – психологического сопротивления. На стадии школьной жизни все эти противоречивые тенденции грозили сформироваться в бессознательный комплекс. Обычно истоками такого комплекса бывают «столкновения требования к приспособлению и особого, непригодного в отношении этого требования свойства индивида ‹…› Как правило, подобный комплекс „надстраивается над первыми переживаниями детства“». [214]
По свидетельству очевидцев, психика Лермонтова в этот период находилась в тревожном состоянии. Он страдал подозрительностью, был раздражителен и неучтив даже в общении с родственниками. «Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени», [215]– такое впечатление он произвел на В. И. Анненкову, пришедшую навестить его в лазарете. А горячо любившей его Е. А. Сушковой высказывал совершенно фантастические опасения относительно козней мнимых врагов: «‹…› у меня так много врагов, они могут оклеветать меня, очернить ‹…›» [216]Но не только родные и близкие отмечали «странности» его поведения в свете. Вступление в столичное «общество» молодого лица не могло пройти незамеченным, и скоро его бросающиеся в глаза приметы стали достоянием широкого круга знакомых и незнакомых. Этот факт отметил и сам поэт, обладавший уже в ту пору исключительной наблюдательностью и интуицией:
Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажусь ‹…› [217]
А уже через несколько месяцев после вступления в «свет», как ему кажется, осознает истоки своих душевных конфликтов, с горечью перебирая в памяти
‹…› ряды тех зол, которым
Причиной были детские ошибки. [218]
Душевное состояние Лермонтова в годы учения, отчасти отразившееся в его поэзии, квалифицировалось некоторыми современниками и критиками как меланхолия, истоки которой в их представлении выглядели весьма путано. На самом деле его самоощущение определялось психическими механизмами, запущенными еще в детстве и отрочестве и лежащими в сфере самооценки и жизненных притязаний. Они оставались неизменными на протяжении всего ученического периода, являясь причиной его тревожности. Как справедливо заметил В. С. Соловьев, «‹…› высокая самооценка уже от ранних лет связана у него с слишком низкой оценкой других – всего света – оценкой заранее поставленной, выражающей черту характера, а не результат какого-нибудь действительного опыта». [219]Для избавления от преследующих его невротических угроз нужно было неимоверное напряжение воли, которой Лермонтов всегда обладал в избытке. Но его исходная сознательная установка мешала ему принять правильное, разумное решение. Ведь «молодой человек – по З. Фрейду – обязан научиться подавлять избыток чувства собственного достоинства, привнесенного детской избалованностью, ради включения в общество, столь богатое такими же претенциозными индивидами». [220]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу