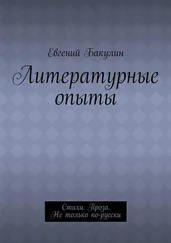Это новое качество иллегальной демократии трудно ухватить, она протекает сквозь пальцы, представляя собой все более персонифицированный партизанинг, искушающий тотальной беззаконностью.
…Зачем Арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Гордись: таков и ты, поэт,
И для тебя условий нет.
На литературном фронтире. Три критика
Еще до того, как сложился ландшафт нашей новой словесности, критик Александр Агеев искал и нашел способ говорить о ней, постоянно промерять, оценивать, рефлексировать свое положение в мире, свой статус: концепт проекта «Голод» – тому доказательство.
Замысел рубрики, писал Агеев, «родился из четкого осознания того, что письменно отрефлектировано (то есть приведено в порядок и присвоено-переварено) оказывается лишь процентов 10 прочитанного. Столь низкий КПД, как я понял после некоторого раздумья, связан с неумением отказаться от почтенного принципа „опуса“. Принцип простой и существует, должно быть, не только в моей голове: любой законченный и цельный текст („опус“) я могу реально присвоить, только ответив на него своим собственным „опусом“. Чрезвычайно затратно. Хочется поискать какую-нибудь ресурсосберегающую технологию. Хотя бы и в школьной физике. Помните про странную природу света – не то он волна, не то поток частиц-квантов? Так вот, оглядываясь на почти любой свой „читательский день“, я все определеннее думаю, что его легче описать „волновым“ „эпосом“, чем дискретным рядом „опусов“. А от ограниченного опуса к безразмерному эпосу где же можно перейти легче, чем в интернете?»
Это промер ситуации рождал у Агеева такие реакции на мир в целом и на его литературные области, которые не девальвировались и сегодня.
Очарование и разочарование живут в его текстах вместе. Агеев принципиально не был страстен, поскольку страстность прописывал по части нелюбимого им пафоса, глобальных социальных или религиозных идей, от которых четко дистанцировался. Но выгоняемая из парадной страсть возвращалась к нему с черного хода, как нелюбимая, но верная подруга. Она была связана с утверждением свободы как нормы жизни и творчества, с утверждением серьезной значимости литературы, со стремлением жить интенсивно здесь и теперь, сегодня. Падший мир неидеален. Но можно креативить и прециозничать в литературе, почему нет?..
И это не единственное противоречие его замысловатой натуры. Агеев был бессистемным интуитом, трудоголиком-сибаритом, вообще какой-то не сводимой, наверное, ни к какому знаменателю протеистичной личностью.
Сейчас переиздана самая принципиальная часть его наследия. «Голод». В первом предисловии Илья Кукулин говорит, что Агеев создал интеллектуальный дневник, «собственную версию новейшей интеллектуальной истории России – советской и постсоветской», стремясь «связать фрагменты разорванного бытия». Во втором предисловии Вячеслав Курицын объясняет, что Агеев предвосхитил фейсбук, точнее способ блогинга в этой сети, где живет сейчас почти вся мыслящая Россия.
И оба правы. Если не считать, что интенция связывания у Агеева выражена не столь уж сильно, сравнительно с точечной диагностикой, а намекать, что напрасно критик опережал время и предвосхищал фейсбук, потому что ничего хорошего в нем, фейсбуке, нет, – это, по-моему, как минимум преждевременно. (Да и в целом фальшиво.)
Вообще, продуктивный скепсис Агеева Курицын доводит до тотального скептицизма, делегитимирующего литературу как таковую, да и любое серьезное творческое усилие и намерение. А скепсис Агеева был, решусь утверждать, продуктивным. Креативным. Агеев был замечательный ворчун и заводила. Он злил и заводил. Но блистательное его злословие, великолепная снисходительность, умение походя развенчивать и демифологизировать все то, что цвело и «венчалось» мифами, – делали такую зарубку в памяти, которая не оставалась без последствий.
У многих из нас было мало иллюзий. Но у него их, кажется, не было совсем. И это самое первое, за счет чего он опередил время; оно догнало его уже посмертно, вот прямо сейчас и догнало. И перегнало, и как нам теперь быть?..
Он первым, одним из первых начал искать новые возможности и ресурсы критического высказывания, отвечающие общественному настроению, духу времени, новым техническим возможностям. И можно что угодно ставить ему в вину, но в «Голоде» он нащупал и отчасти реализовал наиболее творческую, продуктивно-перспективную формулу актуального присутствия критика в литературе и в жизни. Ретроспективно видишь теперь в нескольких десятках выпусков «Голода» самый выразительный портрет литературной повседневности на рубеже веков. Как она мелькает – и как непринужденно, но убедительно сцепляются усилием авторской воли разные контексты и всплывают смыслы, апеллирующие к разным сферам бытия, к истории и современности. Многое из написанного в те годы останется в его субъективном пересказе, который иной раз был, пожалуй, лучше оригинала. Помимо всего прочего, это красиво.
Читать дальше