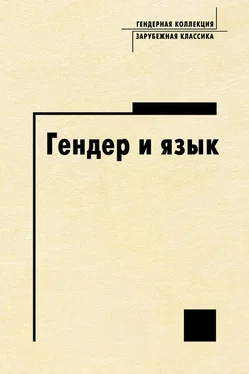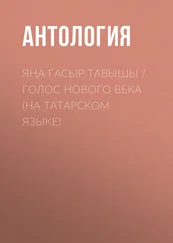O'Barr, William and Atkins, Bowman (1980) «‘Women’s language» or «powerless language’?», in Sally McConnell-Ginet, Ruth Borker and Nelly Furman (eds), Women and Language in Literature and Society. New York: Praeger.
Ochs, Elihor (1974) ‘Norm-makers, norm-breakers: uses of speech by women in a Malagasy community’, in Richard Bauman and Joel Sherzer (eds), Explorations in the Ethnography of Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.
Sherzer, J. (1987) ‘A diversity of voices: women’s and men’s speech in ethnographic perspective’, in Susan U. Phillips, Susan Steel and Christine Tanz (eds), Language, Gender and Sex in Cross-Cultural Perspective. Oxford: Oxford University Press.
Tannen, Deborah (1990) You Just Don't Understand. New York: Morrow.
Tannen, Deborah (ed.) (1993) Gender and Conversational Interaction. Oxford: Oxford University Press.
Tannen, Deborah (1994) Gender and Discourse. Oxford: Oxford University Press.
Гендерные исследования в прикладной лингвистике
Хельга Коттхофф [100]
Перевод с немецкого М. В. Томской
История лингвистических исследований взаимосвязи языка и пола насчитывает уже тридцать лет. В начале 70-х гг. в США появились первые научные работы, посвященные исследованию взаимосвязи патриархата, языка и дискурса. В 1970 г. Мэри Ричи Ки выступила на съезде американского общества диалектологов с докладом «Речевое поведение мужчин и женщин» [Key 1972], в 1972 г. Кейси Миллер и Кейт Свифт проанализировали сексистские слова и выражения на страницах журнала «New York Times» [Miller, Swift 1972], и в 1973 г. вышли в свет научные наблюдения Лакофф о маргинализации женщин в языке и речи [Lakoff 1973]. В патриархальном обществе язык игнорирует женщин (они «включены» в грамматический мужской род), их речевое поведение характеризуется пассивностью, подчинением, неуверенностью и закрепляет их второстепенную роль в обществе. В том же 1973 г. Жаклин Сакс, Филип Либерман и Донна Эриксон в научном труде под названием «Анатомические и культурные детерминанты мужской и женской речи» пришли к заключению, что мужчины говорят так, как будто они больше, крупнее, значимее, а женщины – как будто они меньше. Это впечатление создается благодаря просодическим особенностям, не зависящим от размеров звукового тракта. Женщины-лингвисты обратились в дальнейшем к изучению репрезентации полов в текстах, например, в детских книгах и школьных учебниках, целью которого было объяснить многочисленные формы отражения полоролевых стереотипов [Nilsen 1971; 1973].
С тех пор лингвистическое изучение пола является актуальной областью исследований, которая охватывает гендерные аспекты грамматики и дискурса, языковой системы, языкового развития и речевого поведения, также и в межкультурном сопоставлении [Gtinthner, Kotthoff 1991]. Некоторые важные достижения феминистской лингвистики стали доступными благодаря хрестоматиям Камерон [Cameron 1998] и Коатс [Coates 1998]. Кроме того, появился справочник по данной теме [Holmes, Меуегhoff 2003].
Основное внимание в предлагаемой статье уделяется вопросам качественной и количественной лингвистики дискурса и социолингвистики. Проблемы грамматического рода затрагиваются вследствие этого лишь бегло.
В немецком языке понятие «Genus» (род грамматический) в отличие от понятия «Sexus» (пол биологический) не прижилось в качестве родового понятия для обозначения социального и культурного пола (несмотря на отдельные попытки, например, у Бусман, Хоф [Bussmann, Hof 2000]); оно остается тесно связанным с грамматикой. Вместо него в немецком языке в качестве родового понятия для социального и культурного измерения пола укоренился английский термин «гендер» (gender).
Проблема взаимосвязи рода и пола в языке на материале немецкого впервые стала обсуждаться в работах Сенты Трёмель-Плётц [Trömel-Plötz 1978] и Луизы Пуш [Pusch 1979], которые поставили под сомнение представленное в структурной лингвистике положение о нейтральности существительных мужского рода при обозначении лица. Трёмель-Плётц [Trömel-Plötz 1978] описала неоднозначность существительных мужского рода, во многих контекстах имплицитно реферирующих к лицам мужского пола и игнорирующих лиц женского пола в картине мира. Психолингвистические эксперименты до сих пор показывают, что мы скорее «подразумеваем» присутствие женщин, если семантико-синтаксическая структура содержит эксплицитную информацию о том, что наряду с мужчинами имеются в виду и женщины [Scheele, Gauler 1993; Schmidt 2002]. Интересы феминистской критики языка вращаются с тех пор прежде всего вокруг асимметрии в сфере обозначений лица и поднимают вопрос о взаимосвязи рода и пола, о несексистском словоупотреблении, правилах конгруэнтности в тексте, а также о стилистических и коммуникативных нормах референциального и предикативного употребления обозначений лица и соответствующих местоимений. Обозначения лиц женского пола в немецком производны от существительных мужского рода в большинстве случаев за счет мовирования при помощи суффикса феминизации «-in», например, Schneider / Schneiderin (портной / портниха) [Samel 1995; Schoenthal 2000]. В тех редких случаях, когда исходное слово обозначает по профессии лицо женского пола, мужское наименование не воспроизводится и не производится от него, а вводится новое обозначение для лица мужского пола, которое затем допускает образование формы женского рода, как, например, Hebamme / Entbindungspfleger (акушерка / акушер). Для обозначения малопрестижных «женских» профессий, таких как Putzfrau (уборщица), Haushalterin (экономка), существительных мужского рода не существует вообще (ср. [Pusch 1984; Wodak et al. 1987, 17]). И, наоборот, в немецком языке отсутствуют обращения к мужчинам, соответствующие обращениям к женщине с учетом возраста и статуса – Frau (госпожа) и девушке – Fraulein (девушка). Для реализации языкового равноправия полов в немецком языке подходят стратегии феминизации и нейтрализации, представленные в многочисленных рекомендациях, инструкциях и проч. [Pusch, Trömel-Plötz, Hellinger, Guentherrodt 1980; Pusch 1984; Haberlin, Schmidt, Wyss 1992; Kargl 1997]. Сюда же относится написание заглавной I в слове, которое как символизирует феминизацию, так и претендует на общий род. Эта «орфографическая удача» послужила толчком для многочисленных споров и дискуссий; заглавная I применяется иногда в академической среде, в феминистских публикациях и левой прессе [Brunner, Frank-Cyrus 1988; Braun 1996; Peyer, Wyss 1998]. Мовированные само-обозначения женщин гораздо более распространены в Западной Германии, чем в Восточной [Trempelmann 1998].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу