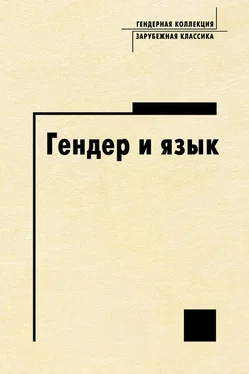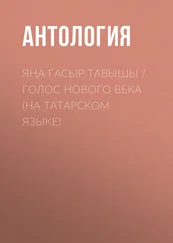Поскольку гендер не всегда является первостепенным для коммуникации и часто применяется неосознанно, представляется разумным рассматривать дискурсивные практики, реализуемые человеком, как составную часть его габитуса. Бурдье понимает габитус как систему устойчивых и передаваемых из поколения в поколение диспозиций к практическим действиям [Bourdieu 1979/1987, 98]. Ключевым понятием при генезисе габитуса является взаимовлияние культуры, истории и окружающей среды. Коллективные диспозиции заложены в телесном и не всегда осознаваемы. Условия жизни создают габитус посредством «автоматического» приобретения знаний и овладения практиками без каких-либо объяснений. Все это дополняется осознаваемыми традициями.
В отличие от гипотезы произвольности Дж. Батлер [Butler 2002] мы понимаем гендер как процесс социальной типизации, который выходит за пределы индивидуального поведения. Поведение продуцирует или репродуцирует межличностную типизацию / унификацию. Эти ожидания внутри отдельной культуры более или менее стабильны. Гендер, таким образом, скорее социальная, чем индивидуальная категория, т. к. личный контроль над тем, насколько серьезно принимается в расчет гендер, ограничен. Окружающие могут неосознанно оценивать действия и поступки человека в рамках традиционной системы полоролевых отношений. В оформлении внешнего вида роль также играет подчеркивание телесных различий. Несмотря на это, имеется значительное пространство для творчества в том, каким образом и насколько убедительно кто-то представляет себя женщиной или мужчиной и насколько интенсивно эти отличительные особенности подчеркиваются в коммуникации. Поэтому мы сегодня говорим о мужественности и женственности [Connell 1995].
Хотя ясно, что исследование пола с позиций лингвистики дискурса должно заниматься моделями коммуникативного поведения как женщин, так и мужчин, все же на первом этапе гораздо больше внимания уделялось женской речи, чем мужской, и часто женская речь оказывалась по сравнению с мужской «дефицитной» [Johnson, Meinhof 1997]. Тем самым исследования пола сначала следовали подходу, распространенному в ранней социолингвистике. Однако это способствовало интенсивному изучению женской речи (зафиксировано до 1994 г. в библиографии научных трудов Грот и Пейер). Торн [Thorne 2002] поясняет, что многие годы большое внимание уделялось изучению (речи) прежде всего девочек и женщин, так как в этой области должны были быть пересмотрены многие мифы и ошибочные оценки и представления.
Современные исследования пола должны быть в состоянии объяснить, почему гендер является столь стабильным фактором общественного строя, а также как выражаются и осуществляются его изменения. Установлено, что этому более всего способствует соединение дискурсивного анализа и этнографии. Эккерт и Мак-коннел-Джине [Eckert, McConnell-Ginet 1992] подчеркивают, что на наше речевое поведение накладывает отпечаток деятельность, которой мы занимаемся и в рамках которой мы вступаем в социальные отношения. Камерон отмечает, что благодаря понятию коммуникативной практики связь языка, речи и пола становится опосредованной связью: «Потенциальное преимущество этого заключается в том, что оно уводит от общих утверждений и обычно сопутствующих им стереотипных толкований. Сужение фокуса позволяет согласовывать как внутригрупповые, так и межгрупповые различия» [Cameron 1997, 34].
Однако мы не исходим из того, что пол символизируется и индексируется всегда одинаково вне зависимости от контекста: в определенных видах речевой деятельности и ситуациях общения, которые в обществе связаны с устойчивыми ассоциациями, гендер выражается определенным образом. Гендерная призма подходит для инсценировки различных идентичностей. Например, мужчина может позиционировать себя в определенном контексте сдержанным стилем речевого поведения (который чаще рассматривается как фемининный) как «не-мачо» или как «мужчина новой формации», женщина, напротив, подобной моделью поведения представляет себя как традиционная женщина, поскольку исконно различные признаки сдержанности обнаруживались чаще всего у женщин.
Темы и определения, связанные с полом, лишь иногда находятся в центре интеракции, например, при сексуальных домогательствах [Alberts 1992], сексистских шутках [Mulkay 1988], при сексистских репликах во время речи женщин-депутатов [Burckhard 1992], а также при уничижительных сообщениях о женщинах-политиках в СМИ [Bendix, Bendix 1992]. Часто эта тематика как нечто привычное выносится за рамки обсуждения. В журнале «Discourse & Society», например, в № 8 за 1997 г. и № 10 за 1999 г. была развернута теоретическая дискуссия о том, что понимает этнометодология под «конструированием гендера» (doing gender) (см. также [Kotthoff 2002]).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу