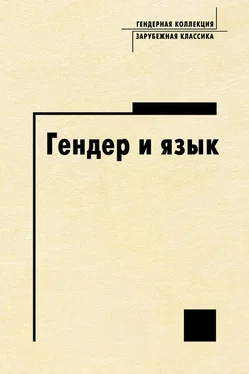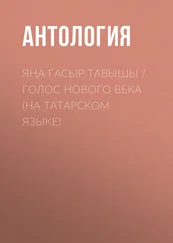В этих примерах понятие «спектакль» (performance) имеет квазибуквальную силу, так как рассмотренные случаи являются намеренным или самосознаваемым спектаклем. По этой причине их можно рассматривать как маргинальные, не проливающие свет на «обычные» процессы конструирования гендера. С другой стороны, возросшее культурное значение таких феноменов, как транссексуализм, трансвестизм, и то, что теоретики гомосексуализма называют «gender fuck» (якобы разрушительная игра с гендерными различиями), может рассматриваться как новая теоретическая задача для феминистской мысли, поскольку эти феномены могут указывать на изменения, происходящие в формах (особенно городских и западных) гендерных отношений. Что же будет подразумеваться, если на вопрос Симоны де Бовуар «А есть ли женщины?» прозвучит ответ: «Да, но некоторые из них – (биологические) мужчины»?
Исследовать тезис «перформативности» в отношении языка и гендера важно: признавая основополагающую (в противопоставление просто указательной) роль использования языка, он также оставляет место активности и творчеству говорящих. Никто из феминистов не считает, что мы являемся абсолютно свободными личностями, но некоторых исследователей совершенно не удовлетворяют точки зрения, согласно которым говорящие являются автоматами, запрограммированными с ранних лет просто повторять «принятое» речевое поведение, установленное для их гендера. Отмечалось, что даже широко распространенные и традиционные виды гендерной идентичности могут (или даже должны), представляться разными способами. Как Кислинг [Kiesling 1997], так и Камерон [Cameron 1997] исследуют ряд вариантов для «разыгрывания» мужественности, которые используются в речевом поведении обычных белых мужчин, чья идеология гендера полностью неоппозиционна.
Наиболее серьезное возражение идеям, подобным взглядам Джудит Батлер, состоит, однако, в том, что, приписывая субъектам большую степень активности, они подразумевают степень свободы, которая отрицает материальность гендера и властных отношений. Как язвительно замечают Коттхоф и Водак [Kotthoff and Wodak, в печати], сомнительное убеждение некоторых теоретиков гомосексуализма в том, что одеваться в одежду противоположного пола или использовать язык противоположного пола – это революционный поступок, способный свергнуть существующую гендерную систему, – является как банальным, так и пошлым. По мнению названных авторов, необходимо всегда рассматривать институциональные контексты и властные отношения, в которых разыгрывается гендер. Еще одной проблемой «перформативности» является ее сосредоточенность на личности как на действующем лице «спектакля». Исследователи, чья основная задача заключается в изучении конструирования гендера и власти в речевом взаимодействии , вполне могут предпочесть подход, при котором социальная идентичность и властные отношения рассматриваются как «со-конструированные» или совместные «достижения». То, что мы не просто отдельные атомы, «забавляющиеся» в вакууме, особенно очевидно, когда исследуемым материалом становится язык, разновидность речевой деятельности, являющейся неизбежно межсубъектной. Это одна из причин, по которым для некоторых представителей феминистской лингвистики постмодернизм менее привлекателен, чем этнометодологические и символические интеракционистские традиции. Они также являются, по крайней мере, потенциально, образцами «гетерогенной» парадигмы Мэтью.
Вероятно, ранние определения перформативности Джудит Батлер (смотри цитату выше) действительно признают необходимость объяснять вопросы власти и межсубъектных процессов с учетом «жесткой регуляторной схемы», в рамках которой стилизуются тела и конструируются личности. Для представителей наук об обществе, интересующихся применением тезиса перформативности к конкретным примерам поведения, специфичность этой «схемы» и ее действие в определенном контексте будут гораздо более значимы, чем, видимо, для многих философских дискуссий. Слишком часто «гендер» в таких дискуссиях рассматривается в отрыве от социальных контекстов и деятельности, тогда как должно быть наоборот; это все равно, что отделить трансвестизм – концентрированное представление родовой женственности – от всех других видов деятельности, и объявить квинтэссенцией того, что значит «вести себя как женщина». Здесь таится сложность большинства социальных ситуаций, в которых повседневно разыгрывается гендер, не говоря уже об институциональном принуждении.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу