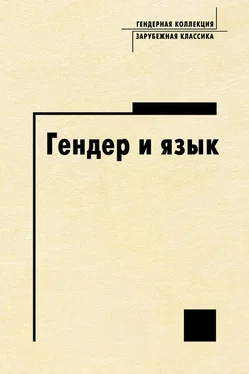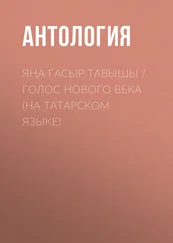В качестве главной альтернативы точке зрения Лакофф и ее последователей на женский язык как символическую слабость стараниями главным образом англоговорящих ученых появилась новая модель – так называемая модель «различия», или «субкультурная» модель, самым известным сторонником которой является Дебора Таннен [Tannen 1990; 1993; 1994]. В этой модели гендерные различия рассматриваются по аналогии с культурными различиями, которые осложняют и могут нарушить межкультурную или межэтническую коммуникацию (ср. [Gumperz 1982]). Считается, что они возникают, прежде всего, из-за распространенной сегрегации, или разделения мальчиков и девочек на группы в детстве и юношестве. Так как эти группы по-разному организованы, участвуют в разных видах деятельности и ориентируются на разные ценности, погружение в них приводит к различающимся репертуарам коммуникативных практик – или, возможно, точнее, предпочтительных коммуникативных практик (см. работу Гудвин [Goodwin 1992], которая демонстрирует, что девочки способны перенять «маскулинную» практику, когда это необходимо для противостояния мальчикам в споре). Сьюзан Тал [Gal 1991] высказалась относительно явной несимметричности сдвига: когда сталкиваются гендерные нормы, оказывается, что маскулинные нормы обычно побеждают.
Модель «различия», подобно модели Лакофф, рассматривает гендерно специфичную речь как часть более широкой гендерной роли и выводит ее генезис из социализации раннего детства; но она отличается взглядом на социализацию, которой придается особое значение (Лакофф фокусируется на семье, Таннен – на группах), а также тем, каким образом осмысляется сама роль. Для Лакофф, как отмечалось выше, в ЖЯ проявляется женственность как вид стилизованной слабости. Для Таннен – в речи и женщин и мужчин проявляется ориентация на определенный набор ценностей: для мужчин центральным является статус, для женщин это взаимосвязь (connection) или сопричастность. Эти различающиеся ценности являются результатом коллективного социального опыта жизни в определенной группе, которая в значительной степени обособлена и отличается от других: таким образом, в терминах Мэтью, этот подход иллюстрирует модель «гендер как аналогия».
В более новых трудах точки зрения Лакофф и Таннен на взаимоотношения языка, гендера и власти – одним словом, подходы «доминирования» и «различия» – представляются как диаметрально противоположные. Хотя эти подходы во многом не совпадают, с позиции, принятой нами в этой работе, они все же имеют больше сходств, нежели различий. Оба подхода иллюстрируют парадигму «аналогии» Мэтью; оба признают, что «женский язык» в сущности – это язык, характерный для женщин. Исходное положение здесь, что «женщины» существуют до «языка». «Женский язык» – это язык субъектов, которые уже бесспорно являются женщинами. И это возвращает нас к вопросу Симоны де Бовуар…
Но чем же еще – спросим мы – может быть «женский язык»? Ответ предлагает лингвист-антрополог Сьюзан Гал [Gal 1991; 1995]. При обсуждении вариационистского социолингвистического подхода, нацеленного на установление корреляции между лингвистическими и демографическими переменными, Гал отмечает:
В такой работе упускают из вида, что категории женская речь, мужская речь и авторитетная или влиятельная речь не просто показатель, производный от идентичности говорящих. Иногда высказывания говорящего создают ее или его идентичность. Эти категории, наряду с более широкими категориями фемининности и маскулинности, конструируются культурой внутри социальных групп. Они меняются в истории и системно взаимосвязаны с другими областями культурного дискурса, такими как сущность личности, власти и желаемого нравственного порядка [1995, 171].
С этой точки зрения, действительно есть нечто отделяющее «женский язык» от простой суммы языковых фактов, частота употребления которых отличает женщин (субъектов уже сформированных) от мужчин (субъектов уже сформированных). Это дискурсивный конструкт, организация, иерархия значений, которые служат источником непрерывного конструирования гендерной идентичности членами определенной культуры. Гал настаивает, чтобы лингвисты более внимательно относились к «идеологически-символическим аспектам речи – культурным конструктам языка, гендера и власти, которые формируют у женщин и мужчин образцы и представления об их собственных речевых практиках» [1995, 173].
Это утверждение знаменует теоретический сдвиг. Хотя Гал ссылается на то, «что упускается» в традиционной социолингвистике, в действительности это «упускаемое» понимание нельзя просто добавить в традиционную модель, так как предлагаемое им взаимоотношение языка и гендера (или любой другой социальной категории) более или менее противоположно тому, которое допускают традиционные лингвисты. «Женский язык» как категория больше не считается показателем, производным от социальной идентичности тех, кто его использует («женщин»), а стал «идеологически-символическим» конструктом, который является потенциально созидающим эту идентичность. «Быть женщиной» (или мужчиной) – это, кроме всего прочего, говорить как женщина (мужчина). Люди порождают свое собственное речевое поведение и судят о поведении других в свете гендеризованных значений, приписываемых культурой определенным способам речевого поведения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу