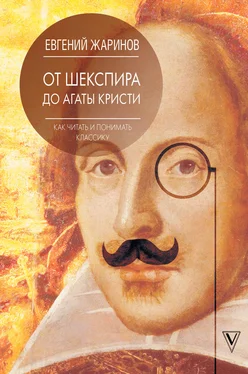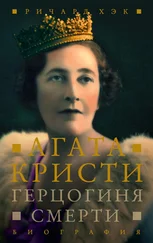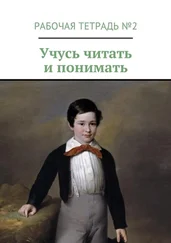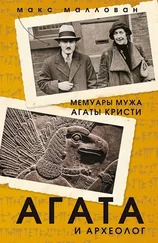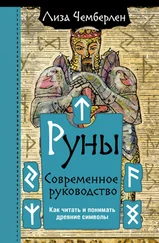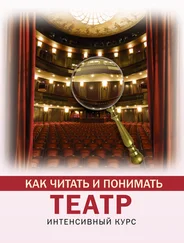Роман-фельетон в этом смысле, проходя через индивидуальное восприятие таких великих читателей, как Бальзак и Гюго, оказался способен вырасти до великих образов Вотрена и Жана Вальжана. И знаменитые «Отверженные», и все романы «Человеческой комедии» выходили в печать по законам романа-фельетона, или романа-сериала. Они писались, опираясь на непосредственную читательскую реакцию. Читатель, таким образом, становился соавтором романиста. Маленькие книжки по 10 су каждая продавались на каждом углу у каждого разносчика газет. Неграмотные платили специально грамотному, и тот читал вслух новый эпизод, новую главу о приключениях Жана Вальжана и Козеты, как выходят сейчас новые эпизоды популярного сериала. Точно так же издавал и писал свои великие романы и Чарльз Диккенс, и Золя, и даже Достоевский, чьи тексты почти всегда основывались на газетных сенсациях, за что его и критиковал в свое время Набоков, ошибочно обвиняя русского классика в излишней склонности к массовому чтиву и аффектированному роману для черни.
По М. Бахтину, однако, такая всеядность романа как жанра определяется самой природой слова в романе. Это романное слово отличается от того слова, которое мы употребляем в нашей обычной лексике и даже в других письменных жанрах. Роман, по мнению исследователя, само романное повествование способно было преобразить слово, придав ему колоссальную многозначность. М. Бахтин утверждает, что современное состояние вопросов стилистики романа обнаруживает с полной очевидностью, что все категории и методы традиционной стилистики не способны овладеть художественным своеобразием слова в романе, его специфическою жизнью в нем. Исследователь, анализируя своих предшественников, приходит к формулировке следующего дуализма: «стилистика и философия слова оказываются, в сущности, перед дилеммой: либо признать роман (и, следовательно, всю тяготеющую к нему художественную прозу) нехудожественным или квазихудожественным жанром, либо радикально пересмотреть ту концепцию поэтического слова, которая лежит в основе традиционной стилистики и определяет все её категории». (М. Бахтин. Слово в романе // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – Изд-во: Художественная литература. М„1975 г. С. 75) Это высказанное сомнение в возможной нехудожественности и квазихудожественности природы романного слова косвенно подтверждает наш тезис о том, что жанр романа-фельетона с его ориентацией на сенсацию, на газету и журнал, на непосредственное отражение событий здесь и сейчас, на апелляцию к читательскому интересу, из которого и складывается сам смысл, ни в коей мере не противоречит роману большому, эталонному что ли. Роман-фельетон – это та почва, тот основной принцип, который и определяет саму природу романного слова, а природа эта, по М. Бахтину, определяется тем, что слово в романе никогда не будет неким застывшим образованием, а всегда будет соответствовать процессу становления. Слово в романе отказывается от всякой искусственности, от всякой ограниченности. Оно может быть и художественным и антихудожественным, и квазихудожественным, как и сама жизнь, которая все время меняется, все время находится в непрерывном процессе становления.
«В то время как основные разновидности поэтических жанров развиваются в русле объединяющих и централизующих, центростремительных сил словесно-идеологической жизни, – пишет М. Бахтин, – роман и тяготеющие к нему художественн-опрозаические жанры исторически слагались в русле децентрализующих, центробежных сил. В то время как поэзия в официальных социально-идеологических верхах решала задачу культурной, национальной, политической централизации словесно-идеологического мира, – в низах, на балаганных и ярмарочных подмостках звучало шутовское разноречие, передразнивание всех «языков» и диалектов, развивалась литература фабльо и шванков, уличных песен, поговорок, анекдотов, где не было никакого языкового центра, где велась живая игра «языками» поэтов, ученых, монахов, рыцарей и др., где все «языки» были масками и не было подлинного и бесспорного языкового лица.
Разноречие, организованное в этих низких жанрах, являлось не просто разноречием в отношении к признанному литературному языку (во всех его жанровых разновидностях), то есть в отношении к языковому центру словесно-идеологической жизни нации и эпохи, но было осознанным противопоставлением ему. Оно было пародийно и полемически заострено против официальных языков современности». (Там же. С. 80–81).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу