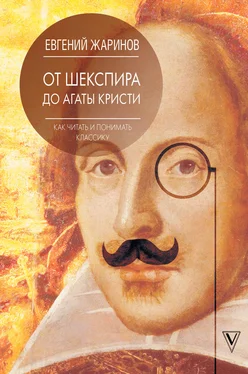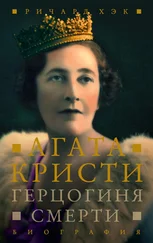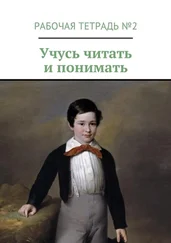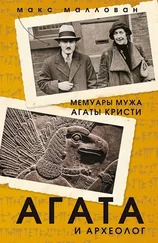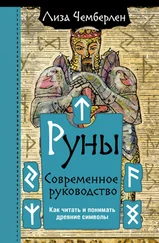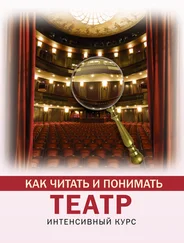По мнению философа, суть дегуманизации заключается в том, что из так называемого «нового искусства» будут устранены все бытовые элементы, связующие искусство с обыденной жизнью каждого индивида. Установка на дегуманизацию возникла как реакция на искусство XIX века с его пафосом гуманизма и демократизма. Следует отметить, что художественные поиски XX века родились из сознания, что прежнее искусство потерпело фиаско в своих усилиях возвысить общество. У истоков радикальных новаций молодого поколения лежала трагедия, пережитая их предшественниками, она бросала на эти новации тень угрюмого разочарования.
В противоположность общей демократической тенденции, наиболее распространенной в искусстве XIX века, Ортега утверждает, что «новое искусство» должно быть элитарным: «Это будет искусство для художников, а не для масс; это будет искусство касты, а не демоса». Чтобы пояснить механику получения эстетического удовольствия, недоступного массам и доступного элите, Ортега прибегает к сравнению с окном. Можно смотреть через окно в сад, не замечая стекла. Но можно настроить зрение иначе: смотреть на стекло. Тогда сад будет восприниматься лишь в виде расплывчатых пятен, словно бы нанесенных на стекло. Первое равносильно восприятию через искусство предмета изображения, жизни, и в этом случае искусство как таковое не воспринимается. Чтобы его воспринять, нужно сосредоточиться на стекле.
Далее в числе особенностей нового искусства Ортега назвал иронию. Здесь крылось противоречие, о котором автор не умолчал. А именно: если новый стиль «характеризуется вытеснением человеческих, слишком человеческих элементов и сохранением только чисто художественной материи», то «это, казалось бы, предполагает необычный энтузиазм по отношению к искусству». Однако, говорит автор, на деле мы наблюдаем другое: искусство, «уйдя в себя», утрачивает всякую патетику и начинает относиться к самому себе как бы насмешливо. В искусстве, по мнению Ортеги, обремененном «человечностью», отразилось специфически «серьезное» отношение к жизни. Искусство было шуткой серьезной, почти священной. Иногда оно – например, от имени Шопенгауэра и Вагнера – претендовало на спасение рода человеческого – никак не меньше! Не может не поразить тот факт, что новое вдохновение – всегда непременно комическое по своему характеру… насыщено комизмом, который простирается от откровенной клоунады до едва заметного иронического подмигивания, но никогда не исчезает вовсе. И не то чтобы содержание произведения должно было сдать свои пророческие позиции, оно, ранее располагаясь, как наука или политика, в непосредственной близости от центра тяжести самой личности, в данный момент переместилось ближе к периферии. Искусство не потеряло ни одного из своих внешних признаков, но удалилось, «стало вторичным и менее весомым».
Этот процесс пробуждения «мальчишеского духа в одряхлевшем мире» приводит к тому, что «личность отвергается новым искусством решительнее всего» и теперь «эстетическое удовольствие должно стать удовольствием разумным», а метафора становится «наиболее радикальным средством дегуманизации», так как именно в ней заложен самый инстинкт бегства, ускользание от реальности. Благодаря возросшей роли метафоры в современном искусстве и возникает так называемый «супрареализм» или «инфрареализм».
Здесь следует отметить, что отказ от пророческой значимости искусства, общий процесс дегуманизации и ориентация на так называемую элитарность в лоне контркультуры привели к стиранию различий между искусством массовым и избранным. Так, по мнению Н. Дмитриевой, воздействие первого на второе дает вспышку в хэппининге и поп-арте. «Как положено элитарным течениям, – пишет исследовательница, – он / поп-арт – Е.Ж./ был вполне дегуманизирован и не призывал к пониманию; глумливая самоирония, названная еще Ортегой в числе признаков нового искусства, доводилась поп-артом до предельной черты. Он манипулировал готовыми предметами ширпотреба или их копиями и муляжами, а также элементами, входящими в арсенал массовой культуры – комиксами, рекламами, афишами, кадрами кинопленки. Соединенные в произвольных комбинациях, эти обиходные и «китчевые» вещи подвергались обессмысливанию. То есть утрачивали и тот маленький смысл, который имели в присущем им контексте».
В насмешке искусства над самим искусством Ортега видит некую спасительную миссию, равную карнавальному действу, связанному с уничтожением-возрождением старой, отжившей европейской гуманистической культуры. Одряхлевшая Европа вступила в эпоху ребячества и подобный процесс не должен удивлять, так как история движется в согласии с великими жизненными ритмами. Наиболее крупные перемены в ней не могут происходить по каким-то второстепенным и частным причинам, но под влиянием стихийных факторов, «изначальных сил космического порядка».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу