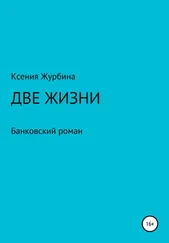Над VII главой третьей части, в которую введено евангельское восклицание Терентьева, писатель работал в октябре – ноябре 1868 года. В начале октября он принял решение закончить роман сумасшествием главного героя. Прощание Ипполита с «Князем Христом» в определенной степени подготавливает трагическое завершение романа, вызывая у вдумчивого читателя не только сознание подлинной человечности Мышкина, но и скорбные ассоциации, связанные с последними часами земной жизни Иисуса, с Его крестным путем на Голгофу… 4 октября Достоевский внес в подготовительные материалы краткий план второй половины четвертой части, который заканчивается так:
«Рог<���ожин> и Князь у трупа. Final. Недурно.
Князь и Н<���астасья> Ф<���илипповна>. (Двое сумасшедших. В Павловске сбегаются смотреть.)» – (9, 283).
Вероятнее всего, слова: «Князь и Н<���астасья>
Ф<���илипповна>» – означают здесь пребывание Мышкина подле убитой в Павловске героини, а замечание о сумасшедших относится к князю и Рогожину, как в окончательном тексте. В подробном наброске финальной сцены «Идиота» сделана 7 ноября сходная ремарка в скобках, несомненно, относящаяся к князю и Рогожину: «(Оба стелят постель, оба сумасшедшие)»– 9, 285.
Решение безвозвратно омрачить рассудок главного героя, вероятно, пришло к писателю как озарение, но оно могло подготавливаться несколькими разнородными причинами. Так, мы уже знаем, что при работе над неосуществленной редакцией «Идиота» в воображении Достоевского возникал образ Христа, сведенного с ума муками смертной казни. Потому и сумасшествие «Князя Христа», сраженного злом и бедствиями грешного мира, могло представиться писателю органичным завершением земной судьбы героя. Формированию идеи о таком конце романа способствовало состояние самого Федора Михайловича, страдавшего от припадков эпилепсии и создававшего «Идиота» в трудных обстоятельствах. Приведу в подтверждение этого лишь два-три свидетельства, хотя число их и нетрудно увеличить. Чрезвычайно обеспокоенный слишком медленно продвигающимся писанием романа, Достоевский сообщал А. Н. Майкову из Женевы 9 (21) апреля 1868 года: «3-го дня был сильнейший припадок. Но вчера я все-таки писал в состоянии, похожем на сумасшествие. Ничего не выходит. <���…> Приходишь домой в этом грустном и ветреном городе – грустный и чуть не сумасшедший, а дома опять работа и работа неудающаяся» (28 2, 296). За полгода до этого, 6 сентября н. ст. 1867 года, Анна Григорьевна записала в своем женевском дневнике, что Федор Михайлович, еще не оправившись от одного из припадков, опасался, чтобы не случилось другого, и «толковал, что не миновать сумасшедшего дома». Обратно ситуации Мышкина, отправленного опять в Швейцарию в «Заключении» романа, Достоевский просил жену не оставлять его за границей, если он потеряет рассудок, а перевезти в Россию [206].
В романе отразились и глубоко личные переживания Федора Михайловича более ранней поры. Страстно влюбленный в М. Д. Исаеву, он писал своей будущей жене, что «умрет», лишившись ее (ср. со словами Мышкина, потерявшего Аглаю: 8, 484). В письме к А. Е. Врангелю от 23 марта 1856 года есть строки: «Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш!» (28 1, 213). Сумасшествие же Мышкина вызвано потерей обеих женщин , столь дорогих его сердцу!
Из письма А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 года мы знаем, что Достоевского удовлетворяло трагическое завершение романа. Он выражал уверенность, что, «поразмыслив», читатели согласятся с ним, что «так и следовало кончить» (28 2, 327). Читатели должны, по-моему, понять и почувствовать сердцем, что так же, как зовет нас к покаянию и духовному преображению крестная смерть Спасителя, зовет к ним и помрачение рассудка «ревностного христианина», князя Льва Николаевича Мышкина. Я совершенно разделяю мнение Джосефа Франка, который пишет, что трагический конец героя ни в коей мере «не подрывает трансцендентного идеала христианской любви», который князь, пленяя сердца читателей, «старается принести в мир» и полное осуществление которого свыше сил любого земного человека [207]. Чрезвычайно знаменательно, что в том же самом письме к Майкову отражено возрастание веры, углубление духовной жизни Достоевского: он «уверовал иконе», так как опытно
познал высокий, благодатный уровень молитвы.
Это требует некоторого пояснения. Как установила И. А. Битюгова, в период завершения «Идиота» Федор Михайлович побудил Майкова кардинально переделать первую половину стихотворения «Дорог мне перед иконой…», которое было прислано ему в письме от 22 ноября 1868 года [208]. И что еще более важно, – призвал поэта пересмотреть отношение к иконе. По мнению Достоевского, она – не «изуверство» и не нуждается в извинении и оправдании. «Знайте, – пишет он Майкову 11 (23) декабря 1868 года о своей духовной эволюции, – что мне даже знаменитые слова Хомякова о чудотворной иконе, которые приводили меня прежде в восторг, – теперь мне не нравятся, слабы кажутся. Одно слово: “Верите Вы иконе или нет!”» (28 2, 333). По обоснованному предположению А. С. Долинина, слова об иконе, упоминающиеся здесь писателем, принадлежат не Хомякову, а Киреевскому. Они воспроизведены Герценом в главе XXX четвертой части «Былого и дум». Суть их сводится к следующему: наблюдая в часовне, как люди усердно молились перед чудотворной иконой Богоматери, Киреевский понял, что «это не просто доска с изображением». Он чувствовал, что из иконы струилась «чудесная сила», и объяснил это тем, что икона веками поглощала потоки «молитв людей, скорбящих, несчастных <���…>. Она сделалась живым органом, местом встречи между Творцом и людьми» [209]. Достоевского теперь не удовлетворяет такое объяснение причин молитвенного почитания иконы. Побуждая друга своего уверовать в нее по-настоящему, писатель надеется, что тот, быть может, поймет, что ему «хочется сказать; это трудно вполне высказать». Так может писать только человек, который испытал благодатное воздействие Святого Духа, дарованное ему в молитве. Это воздействие познается верующими опытно, и его действительно трудно выразить словами… С отрадным чувством и живейшим интересом вчитываюсь я в работы И.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
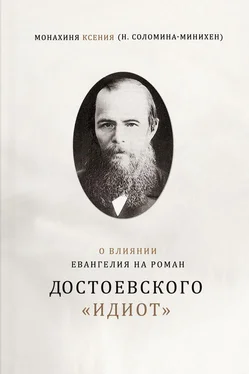
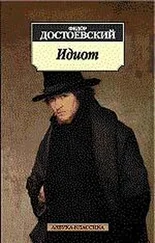


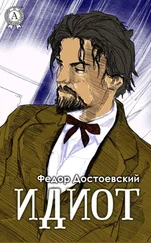
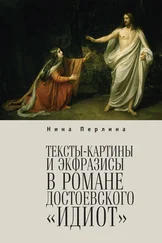
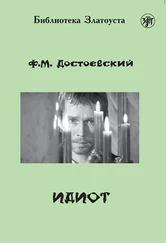
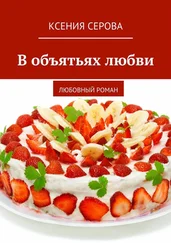
![Федор Достоевский - Идиот [litres]](/books/429285/fedor-dostoevskij-idiot-litres-thumb.webp)