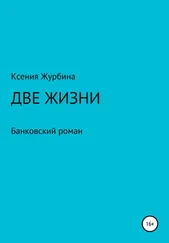Отчаяние и «бунт» Терентьева в очень большой мере вызваны неверием в Воскресение Христа. Реальность этого великого события, по представлениям юноши, опровергается в его исповеди. Мышкин лишь косвенно отвечает больному, рассказывая о смерти майора Степана Глебова, казненного при Петре Великом, о чем речь пойдет позднее. Об отношении князя к заблуждениям юноши приходится, главным образом, судить по тому, что нам известно о религиозном миропонимании главного героя. Как отчасти было показано, оно раскрывается с наибольшей полнотой до вступления в действие Ипполита – в описании эпилептических созерцаний князя, а также в беседе его с Рогожиным по возвращении в Петербург. И размышления Льва Николаевича о моментах ауры, и разговор с Парфеном, замыслившим его убийство, отнесены автором к одному и тому же дню и говорят читателю об одном и том же: о природе веры вообще и о глубокой личной вере Мышкина, основанной на опытном знании Бога.Именно опытному богопознанию, пути которого (при некоторых общих закономерностях духовной жизни) могут быть многоразличны, в православии придается значение первостепенное.
Ипполиту тоже даны автором своего рода «созерцания», переживаемые в снах и полубреду. Они резко контрастны мышкинским и постепенно приводят больного к решению покончить жизнь самоубийством. Символика первого из кошмарных снов Терентьева, свидетельствующая о безверии юноши и навеянная отчасти Откровением св. Иоанна, тонко проанализирована Р. Коксом в главе об «апокалиптическом видении» Мышкина из книги «Между землею и небом» [196]. Я не буду еще раз на ней останавливаться и сразу перейду к следующим «созерцаниям». Ипполит пишет затем о полубредовом сне, в котором он видел Сурикова, неожиданно получившего миллионы. Эти строки исповеди вновь говорят читателю об ожесточении больной души Терентьева: он зло насмехается над Суриковым и его «замороженным» младенцем не только наяву!..
Сразу после этого начинается рассказ об увиденной Ипполитом в доме Рогожина копии с картины Гольбейна «Мертвый Христос». Описывая «бесконечные» муки Иисуса еще до распятия («раны, истязания, битье от стражей, битье от народа, когда Он нес на себе крест и упал под крестом» – 8, 339), Достоевский объединяет сообщения всех четырех евангелистов. Затем, продолжая накапливать аргументы в пользу невозможности воскресения Христа из мертвых, Ипполит подчеркивает, что по его расчету крестные страдания Иисуса продолжались шесть часов. Расчет Ипполита нуждается в некоторых пояснениях. Следуя римскому обычаю, иудеи делили ночь на четыре стражей (по три часа в каждой), и на такие же по длительности периоды, называемые часами, делился день. Исходя из этого, Терентьев сопоставляет свидетельства Нового Завета. По Евангелию от Марка, Иисус был распят в третьем часу (около девяти утра по современному счету). А умер Он «около девятого часа», – ближе к современным трем часам дня [197]. Но по Евангелию от Иоанна Христос был распят не в третьем часу, а «около шестого часа» [198]. После этого Терентьев, имея в виду опровергнутую уже ранней христианской церковью ересь докетизма [199], подчеркивает: «Христос страдал не образно, а действительно, и <���…> тело Его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно» (8, 339). С потрясающей картинностью описав изображение мертвого Христа на полотне Гольбейна, юноша задается вопросом: каким образом, глядя на «такой труп», последователи Иисуса могли поверить, «что этот мученик воскреснет»?
Сославшись затем на чудеса Христа, воскресившего из мертвых дочь Иаира, а также Лазаря [200], Терентьев без всяких оговорок заявляет, что Побеждавший законы природы при жизни Своей не победил их после распятия: Воскрешавший других – не воскрес! Картина Гольбейна внушила Ипполиту веру во всесилие законов природы: даже Христос – жертва их. Создав Иисуса, природа «предназначила» Ему сказать «ужасную ложь», а потом, насмеявшись над Ним, «бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя» лучшее создание свое, как она вскоре «глухо и бесчувственно» поглотит и его собственную жизнь! (8; 247, 339). Восемнадцатилетнему юноше ни на минуту не пришла в голову мысль, что при жизни Иисуса побеждаемая Им смерть была столь же страшна, побеждаемые Им законы природы – столь же сильны, как и после Его распятия… Сам Христос не раз говорит о предстоящих Ему унижениях, отвержении и физических муках, но в Его словах тема Страстей неразрывно соединена с уверенностью в
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
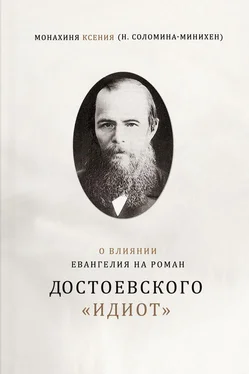
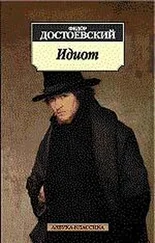


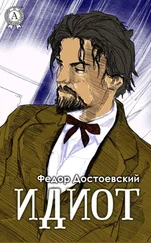
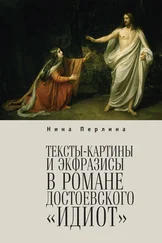
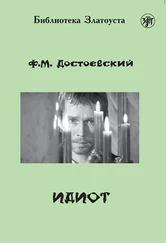
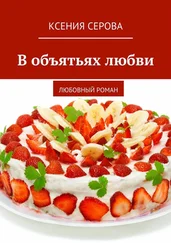
![Федор Достоевский - Идиот [litres]](/books/429285/fedor-dostoevskij-idiot-litres-thumb.webp)