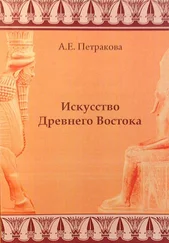Проще говоря, люди две с половиной тысячи лет назад увидели, что с окружающим миром, обществом что-то не то. «Почему это происходит?» — спросили они себя. Потому что человек разучился общаться с миром и другими людьми. Прежде чем реформировать общество, нужно правильно и честно все назвать своими именами. Когда все названо точно, понятно и верно, становится ясно, что и как делать.
Например, современный человек говорит: «Нужно усовершенствовать социальную систему». Если бы древнегреческий Сократ жил в наши дни, он сразу бы спросил: «А что такое 1) усовершенствовать, 2) социальный, 3) система?» — и его разговоры (беседы, диалоги) с окружающими людьми неизбежно выявили бы, что люди совершенно по-разному понимают эти слова. А это значит, что нет единого (сакрального, угодного богам) их понимания. А поэтому сам вопрос не имеет никакого смысла. Сначала нужно всем договориться о том, что имеется в виду, а потом уже и усовершенствовать.
Но ведь после того, как президент или премьер-министр произнесет эту фразу, чиновники всех рангов начинают судорожно принимать конкретные решения. Причем одно другого абсурднее, недальновиднее, глупее и бессмысленнее.
Если бы Конфуцию (представим себе невозможное) дали прочитать какой-нибудь проходной отчет современного распальцованного стратегического аналитика крупной бизнес-компании, которые пишутся тысячами и которые, за редким исключением, повествуют, как говорится, ни о чем, он (Конфуций) счел бы их (и отчет, и аналитика) просто вредными. Потому что слова, которые там написаны, непонятны никому, кроме автора текста.
Так же Заратустра прореагировал бы на современный проходной юридический текст, а Будда — на какую-нибудь второсортную кандидатскую диссертацию по социологии или политологии.
С постепенным ослаблением роли религиозного, сакрального мышления в жизни общества угасает и древняя доктрина исправления имен (религиозный нейминг) [1]
.
На Западе религиозное отношение к слову постепенно сменяется идеологическим.
Европейский классицизм XVII–XVIII вв., захвативший и российские умы, — это новая волна исправления имен. Абсолютные монархи, сначала французские, а затем и остальные, начинают наводить порядок в театре, литературе, языке светских салонов. «Очистители» (во Франции — пуристы) отбраковывают «плохие» слова, королевские идеологи выстраивают иерархию стилей, устанавливают правила, по которым следует писать тексты. Это время бесконечных инструкций, предписаний, эпоха цензуры. Порядок в системе языка рассматривается как отражение порядка в системе общества. Например, теория трех штилей, которую мы все помним по школьной программе, — это прямое отражение Табели о рангах.
В принципе такой идеологический нейминг просуществовал вплоть до второй половины XX в. Он работает и до сих пор, к примеру, в КНДР.
Россия (СССР) жила в режиме идеологического именования до конца 80-х — начала 90-х гг. XX в. Конечно, некие отголоски, следствия, реликты и т. п. идеологии есть и сейчас. Есть они на Западе. Но подобно тому, как в свое время идеология заменила религию как сила, определяющая жизнестроительство в целом, так и в XX в. идеология уступила место тому глобалистскому именованию, который в наши дни безоговорочно доминирует, по крайней мере в большей части мира.
Глобализм, безусловно, имеет сейчас своей доминантой информационно-коммерческую, торгово-экономическую составляющую. Имена, названия сейчас — в первую очередь товар. Мир — это глобальный рынок слов, имен. Тут-то и появляется термин «нейминг», за которым стоит чисто прагматически-коммерческое содержание.
Уже неважно, насколько имя связано с Богом, Небом, Высшими Силами (как в религиозном нейминге).
Неважно и то, насколько имя делает стабильным и устойчивым общество (как в нейминге идеологическом).
Важно лишь одно — как продается то, что стоит за этим именем. Имена исправляются исходя из их конкурентоспособности, продаваемости.
Если Запад живет в режиме жесткого глобалистского нейминга уже несколько десятилетий, то Россия — не более двадцати лет. В этом смысле мы, конечно, отстаем, с одной стороны. Но с другой — имеем свои преимущества, следствия которых еще не проявились, но могут проявиться в будущем, если отечественный нейминг выберет верную стратегию исправления имени.
Недостатки очевидны.
Например, комплекс закрытой страны, вызванный долгой идеологической, а значит, и экономической изоляцией, в России не изжит и еще долго не будет изжит. Иностранные названия у нас продолжают быть престижнее, потому что все иностранное многими продолжает расцениваться как более качественное, что далеко не всегда так. Языковое сознание по инерции называет иностранными словами то, что необязательно называть именно так. Отсюда, к примеру, бесконечные коттеджные поселки с безумными названиями вроде «Барвиха Лакшери Виллидж». Или даже «Шервудский лес», где, как известно, жили не респектабельные обыватели, а лихие люди.
Читать дальше
![Владимир Елистратов Нейминг: искусство называть [учебное пособие] обложка книги](/books/394466/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u-cover.webp)