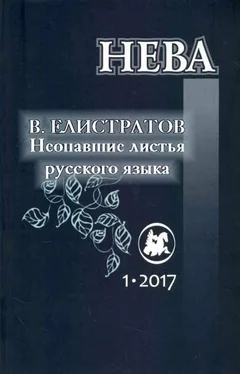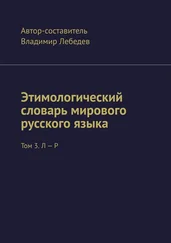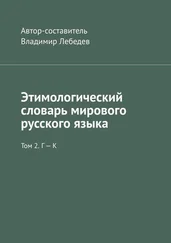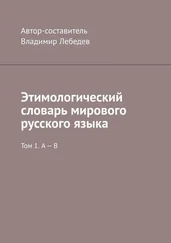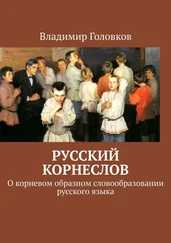Показательна и мощная грамматическая, синтаксическая «востребованность» корня: он выступает и как предлог («благодаря»), и как союз («благо», «благодаря тому что»). Если знаменательный корень выходит в сферу служебных частей речи — это говорит о его глубокой укорененности в языковом сознании. Это значит, что он — некая «несущая ментальная конструкция».
Корень «благо», при всей своей «солидной» этимологии и церковнославянской «священности» («благовест»), тем не менее невероятно «современный» корень. Дело в том, что он «мирно» нейтрализует в себе идеальное и материальное, духовное и прагматическое, причем без всякого ущерба тому или другому смысловому «полюсу».
Корень «благ» — это и «благоговеть перед гением» и «материальные блага», и «благоволение» и «благополучие», и «благоразумие» и «отблагодарить тринадцатой зарплатой». Достаток (благополучие), удобство (благоустройство), разумность (благоразумие), душевная отзывчивость, открытость (благодарность), красота (благовидность), гармоничность (благозвучие) и т. д. — все эти качества мирно сосуществуют в этом корне.
В этом смысле слово «благо» — словно бы модель идеального устройства мира, счастливого «белого света». Оно — воплощение извечной мечты человечества о гармонии и справедливости.
Ясно, что «Бог» («божество», «божественный» и т. д.) и «богатство» («богатый», «разбогатеть» и т. д.) в русском языке этимологически родственные, по сути — однокоренные слова.
Очень трудно сказать, какое из них «первично». Значительная часть исследователей считает, что слово «Бог» в славянских языках (в общеславянском) первоначально означало именно «наделенный богатством». Отсюда упоминание этого корня в сочетании с именами языческих богов («Даждь-бог» и пр.).
Бог исконно мыслится как активное, динамическое начало, как та сила, которая «дает», «наделяет», «раздает», «распределяет». Это очень важно: «Бог» в индоевропейском корне «bhag» — это по сути глагол, действие, «акт» («наделять», «раздавать»), восходящий, в свою очередь, к древнеиндийскому сакральному звукосочетанию «bha» — «придыхательному выдоху», символизирующему сотворение Бытия.
Здесь произошло удивительное совпадение с библейским «В начале было Слово (=глагол!), и это Слово было Бог».
«Бог» — это мистический «Первовыдох» (ср. еврейское «Роах Элохим» — «Дуновение Бога», соответствующее греческому «Логос» в Евангелии от Иоанна), «Глагол» («Слово») и «Наделение» («обогащение мира»). Бог — это Мысль, Слово и Дело в одном лице.
Считается, что в славянские языки этот корень попал через иранские языки (скифские, сарматские и др.), как иранское «baga» («Ьауа») со значениями «бог», «господин», «участь», «судьба». В индийском «bhaga» было осмыслено как «счастье», «благосостояние». В греческом (bayos) — как «ломоть» (хлеба), «владыка», «царь».
Иначе говоря, во всех индоевропейских «исполнениях» этого корня Бог — это активное первоначало Бытия, которое наделяет — судьбой, счастьем, благосостоянием, властью, пищей…
В русском языке словообразовательное гнездо корня «бог» феноменально «богатое», вплоть до слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами («боженята», «боженька» и др.), что практически не имеет аналогов в других языках, разве что в латиноамериканских вариантах испанского («diosito mio» — «боженька мой»).
У русских «Бог» — чрезвычайно интимная тема. Русский человек, если внимательно проанализировать русский словесный материал с этим корнем, словно бы состоит в близких, даже отчасти «панибратских» отношениях с Ним: «Бог не Тимошка, видит немножко», «взять Бога за бороду» (а то и еще за что-нибудь.) и т. п. Практически никакой метафизической дистанции! «Русский бог добр».
Это качество необходимо, на наш взгляд, всячески культивировать, пропагандируя соответствующую идиоматику (см., например, у Даля) и фольклор. При этом надо иметь в виду, что богохульство на Руси (то есть непосредственное ругательство в адрес Бога), по сравнению с западным карнавалом, было практически неведомо. Русская культура, можно сказать, не знает богохульства. Оно ей всегда было чуждо и остается чуждым.
Идея же «богатства» как «обилия материальных ценностей, денег» (С. Ожегов) в русском языковом материале находит весьма скромную поддержку. Идею материального богатства русские предпочитают выражать иначе, по сути — эвфемически, через корень «добр» («И стали они жить-поживать да добра наживать»).
Читать дальше