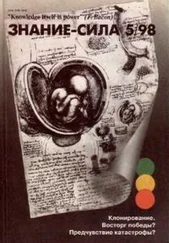Цифру о допустимых 10 процентах жертв в антитеррористической операции взяли из американского боевика «Крепкий орешек», никаких нормативов тут быть не может. Через день или два кто-то сказал, что допустимы 20 процентов потерь.
Что телезрители видели дальше? Что родственники не могут найти своих или просто не могут попасть в больницу (меня приятельница из Франции спрашивала: кто имеет право мать не пустить в больницу?! У них голова так цивилизованно устроена, что они понять не могут, как это может быть. Наша власть показала, что не только может быть, но только так и будет). Врачи не делали того, что нужно. Но никто не наказан. Может, был какой-нибудь большой митинг? Нет. Может, хотя бы проведено общественное расследование правомерности тех или иных действий? Нет; а если такое расследование по каким-то политическим причинам и будет проведено, оно никак не будет общественным и его выводам никто не поверит. Может, кто-нибудь ответил хотя бы на те вопросы, которые прозвучали в телевизионном эфире, вроде того, зачем надо было убивать обездвиженных боевиков вместо того, чтобы их допросить? Нет, и сами вопросы тут же были забыты.



Почему чувство солидарности к заложникам не переросло ни в какое действие? В России век как минимум старались разорвать связь между чувством и мыслью, мыслью и словом, словом и действием. Этот «чип власти» встроен там, внутри, в человеке. Так работает цензура внутри писателя: не цензор в своем кабинете, а эти вот штучки, вставленные туда, где определяются разные типы человеческого действия.
Итак: что было? Краткий момент шока и сочувствия, возбудивший потом ненависть к чеченцам, которые такое с нами делают посреди Москвы, чувство собственной уязвимости и силы власти, которая сделала все, да, плохо, да, топорно, но только на нее можно рассчитывать. И она же при этом делаете нами все, что хочет. Все- таки она – наша, русская. И защитит нас от нерусских.
И если до этого 60 процентов, а то и две трети опрошенных были за переговоры, сразу после операции стало один к одному: 47 «за» и 47 «против» продолжения войны. Число людей, уверенных, что дело в Чечне закончится сравнительно быстро и мирно, упало, люди готовы к тому, что война будет идти долго и кроваво. Больше половины при этом удовлетворены тем, как власти провели операцию по освобождению, и одобрили бы, если бы власть ответила чеченцам так. как Америка собирается ответить Ираку, то есть долбанула бы по Чечне. Вот вам реальный результат операции.
Центральное место во всем этом комплексе чувств по-прежнему занимает власть. Человек бесправен перед ней, но только она может его спасти и защитить. В этот комплекс входит и ощушение, что тебя изнасиловали, но куда деваться…
Помню, как меня когда-то поразило воспоминание замечательного психолога Бруно Беттельхайма времен немецкой оккупации, как их везут в лагерь. Еще в тюрьме их бьют, бьют, бьют, потом везут на открытых платформах, холод, зима, заключенные околевают от мороза, опять одного избили, другого избили, и до того человек устал, измотан, не может больше, что он этому вот, который его в месиво прикладом превращает, руки на плечи кладет. Вот и у нас сейчас такое чувство, может, лишь не настолько мучительное и острое. Это, я думаю, и есть стокгольмский синдром – не как психологическая заковыка, а как структура, встроенная в человека. Он будет брюзжать по поводу этой власти, будет матом ее ругать, но ручки на плечи ей он все равно будет класть. А мечтать еще и припасть щекой к кителю…
ТВ делает это ощущение всеобщим: 98 процентов соотечественников узнают новости по ТВ.
И власть поняла, что может управлять ситуацией, и сделала, по-моему, из этого выводы. Да еще и раньше сделала: вспомните «Курск»; съели? Даже родственники – при том, что все видели бесконечное вранье, желание власти уйти от какой бы то ни было ответственности. Теперь уж распилили, расплавили, концов точно не найдешь. Я думаю, здесь будет то же самое.
Повторюсь: если бы чувству была придана культурная форма, можно было бы сохранить его смысл и объединить людей. Форма – это способ объединения людей. И удерживания их дальше в общении.
Читать дальше