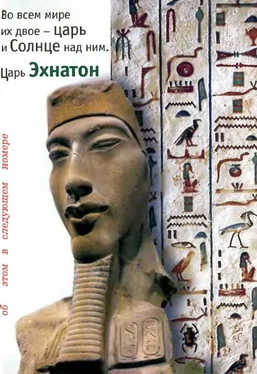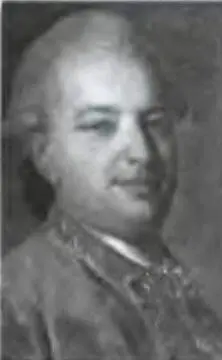Беда только, что Елизавета была ленива и прежде всего — к государственным делам. Но парадокс в том, что как раз это качество любимой женщины стимулировало яростную борьбу Ивана Ивановича с собственной природой, склонной к созерцательности, размышлениям, уединению, и со временем сделала из него государственного деятеля международного масштаба. К сожалению, несколько одностороннего, поскольку экономикой он фактически никогда не занимался. Зато поворот к дружбе с Францией — а именно эта внешняя политика всегда была выгодна России (в отличие от союза с Англией) — произошел под его нажимом. И "офранцуживание" русского двора, также явившееся его воли делом, может быть правильно оценено лишь в данном контексте, а отнюдь не как мода или прихоть. Шувалов не только прививал двору Елизаветы "французские" вкусы, он "заразил" интересом к французской культуре молодую великую княгиню Екатерину Алексеевну, с которой долгие годы был в скрыто, а затем и открыто дружеских отношениях. (Простое доказательство: только несколько самых близких друзей, таких как Лев Нарышкин, Александр Строганов, в письмах и в своем кругу обращались к государыне фамильярно уменьшительно — "Като", слово, с которого и Шувалов начинает свои к ней письма.)
Кстати, по поводу его собственной любви к Франции, его собственного знания, а главное — тонкого понимания этой прекрасной страны и французского характера (ох, какого непростого!) — откуда, спрашивается, они у него-то взялись? Каким чудом в его собственном скромном деревенском детстве, лишенном сильных ярких внешних впечатлений, могла зародиться эта страсть и сформироваться эта хватка, позже повернувшая гигантскую неповоротливую Россию лицом к Франции.
Мне кажется, ответ тут только один: Иван Шувалов, друг гениев своего века и покровитель самородков, сам был самородком; вот почему так естественно тяготение к нему столь разных людей, таких как Ломоносов, Вольтер, Дидро, Потемкин ... И если Ломоносову он был все-таки очень нужен, и Вольтер мог иметь в отношениях со всемогущим фаворитом свой интерес, то позже морганатический муж Екатерины (теперь факт их венчания документально подтвержден), цыкавший порой и на саму матушку- государыню, Шувалову всегда смотрел в рот, и иные из начинаний Григория Александровича Потемкина были ему подсказаны Иваном Ивановичем потихоньку, наедине.
Вообще двадцать лет жизни Ивана Ивановича Шувалова после четырнадцати лети его путешествия по Европе требуют отдельного рассказа. Я предпочитаю сделать это в форме романа, поскольку, "ныряя" в Лету, вижу весь гигантский массив частной жизни, целиком отданный любимым людям и любимой России, а потому двадцать последних лет его приватной жизни, я надеюсь, не станут в моем описании "приватизированной историей", а просто — историей жизни и страны. Хотя выражение "приватизированная история" можно понимать и в позитивном смысле, если помнить, что история как наука не бывает ничейной. И если "древо Жизни" зеленеет свободно, то саду Истории только эту свободу дай, так он тотчас зарастет мощными идеологическими сорняками. В том-то и парадокс.
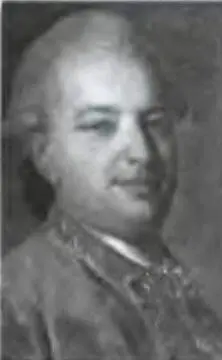
Ф. С. Рокотов. Портрет В. И. Майкова. 1765 г.
В начале шестидесятых Шувалов уезжал из одной России, а вернулся в другую. Екатерина взращивала не только петровскую — экономическую и политическую Россию, но и шуваловскую — культурную. Семена проросли, ростки тянулись к свету: университет, обе академии — наук и художеств, газеты и журналы, театр, публицистика... — все развивалось. Но именно с возвращением Шувалова получило совершенно скрытый даже от добросовестных историков мощный импульс. А скрыт он был во многом из-за того, что наши историки долгое время не имели возможности заниматься "раскопками" в зарубежных архивах. Приведу примеры.
В первый же месяц после своего возвращения в Петербург Шувалов вместе со своим племянником Голицыным отправился в Петергоф, чтобы посмотреть на картины, сваленные в один из подвалов еще при Петре Федоровиче и провалявшиеся там 14 лет меж сгнивших седел и позеленелых подсвечников. Представьте себе, что должен был испытать Иван Иванович, извлекши на свет божий Рембрандта, Дюрера, Тинторетто! Он тут же повез драгоценные полотна конт- рофагеру (реставратору) Фанцельдту. Тот тоже огорчился. Не время, не стихии съели краски, сгубили красоту, а невежество да глупость людская: на лицах Христа и блудницы точно капусту рубили; "Притча о винограде", писанная на дереве, переломлена надвое. Я так живо вижу ту сиену: осенний, полузабытый (Екатерина его не любила) Петергоф, картины, выражение лиц мецената и реставратора!.. Откуда это впечатление? Занимаясь историей Великой французской революции, я обнаружила описание этого эпизода у племянника того самого реставратора Фанцельдта; молодой человек работал в девяностые годы с великим французским художником и якобинцем Давидом. Так вот именно Иван Иванович по возвращении своем практически сразу сделал финансовое "вливание" в реставрацию живописи, а позже икон, и с тех пор она начала набирать силу.
Читать дальше