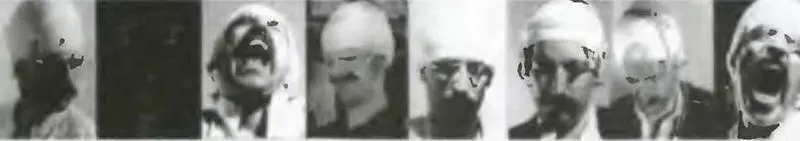Помимо собственно медицинского целесообразия, идея замораживать тело перед анатомированием напрашивалась в 1840-е годы и на определенные художественные ассоциации.
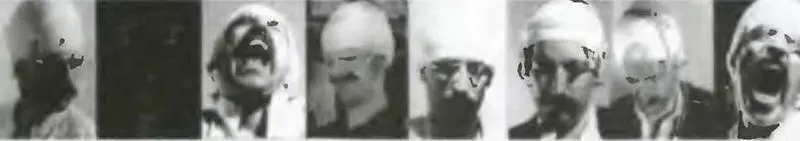
Современники Пирогова могли вспомнить, что в 1836 году в Академии художеств была выполнена единственная в своем роде скульптура П. Клодта "Лежащее тело", моделью для которой стал анатомированный замороженный труп. "Художественная газета" (1836, № 4) описывала это событие восторженно: по предложению президента академии А.А. Оленина "снять форму с замороженного препарированного тела", "/в/ нынешнем году, в январе месяце, И.В. Буяльский выбрал из числа мертвых тел, доставленных в анатомический театр, один мужской кадавер, самый стройный, и, дав членам красивое и вместе поучительное положение, велел заморозить, чему и погода вполне благоприятствовала. Тело было потом внесено в препарационную залу — поверхность его немного оттаяла, и господин Буяльский со своим адъюнктом, прозектором и его помощником с большим тщанием в течение 5 дней отпрепарировали все мускулы в настоящей их полноте, выносив, смотря по надобности, тело на мороз. Вслед за сим снята была с препарата гипсовая форма и отлита статуя, которая представляет лежащее на спине стройное мужеское тело с поверхними мускулами (без кожи). Все художники, видевшие ее, отдали полную похвалу как красивому и умному расположению членов фигуры, так и искусству, с каковым сохранена пропорция полноты частей и их форма". В том же номере сообщалось, что Оленин распорядился об отливке нескольких таких же статуй для Лондонской, Парижской и других Академий художеств.
Методика "ледяной" и "скульптурной" анатомии, примененная Пироговым в работе над анатомическим атласом, продолжала в определенном смысле ту же изобразительную традицию — и представлялась современникам венцом реализма в изображении тела.
Во второй половине 1850-х популярности медицинских работ Пирогова очень способствовала его общественная деятельность в сфере образования — например, его статьи о воспитании, опубликованные в 1856 году, вызвали широкое обсуждение. Кстати, в своих педагогических статьях Пирогов пользовался для характеристики общественных явлений уже привычными тогда аналогиями из медицинской и патологоанатомической практики. Споря с проповедниками радикальной и, как ему казалось, социально неоправданной эмансипации женщин, Пирогов убеждал: "Не всякий врач. Не всякий должен без нужды смотреть на язвы общества. Не всякому обязанность велит в помойных ямах рыться, пытать и нюхать то, что отвратительно смердит". Роль женщины в обществе, по мнению Пирогова, конечно, не в этом, но замечательно, что кто-то (по Пирогову, это во всяком случае — мужчина) все же должен и "смотреть на язвы общества", и "нюхать то, что отвратительно смердит".
Если социальная репутация медицинской профессии в 1850-1860-е создается ее отождествлением с "практически полезными" сферами социальной деятельности (в том числе и литературы), то патологоанатомия демонстрирует неприглядную изнанку такой практики, черновую работу, предшествующую взыскуемой пользе.
В Европе увлечение анатомией часто принимает гротескные формы. В конце 1840-х одна из распространенных салонных забав во Франции — препарирование трупов или специально изготовленных муляжей. В России мода на анатомию не так эксцентрична, но и здесь ею увлечены не только те, кто выбрал медицинскую профессию. Препарирование трупов наделяется пафосом общественного служения. Анатом преодолевает отвращение к гнили и вони, рискует заразиться (у Тургенева такое заражение — причина смерти Базарова), но самопожертвование ученого демонстрирует обязанности гражданина.
Хладнокровие ученого и целесообразие его работы полезнее, а значит, и красивее того, что считает "красивым" нормативная эстетика. В контексте таких эстетических предпочтений красоту человека определяет польза, которую тот приносит — польза его дела, а в конечном счете — польза тела. При жизни человека она измеряется его вкладом в практику других тел, а после смерти — практикой, которую из человеческого тела могут извлечь другие, пока еще живые тела. Так Базаров в "Отцах и детях" смотрит на тело Одинцовой: "Этакое богатое тело... хоть сейчас в анатомический театр".
Пройдет всего несколько десятилетий, и это перестанут понимать. В конце XIX века К.Ф. Головин (Орловский), автор монографии "Русский роман и русское общество", рекомендованной, кстати, для изучения в гимназиях — оценит 1860-е как годы безусловного преобладания "мрачно-пессимистического настроения", господства убеждений, будто сама "суть реализма сводится к отрицанию красоты и величия", будто "правда обязывает рисовать только мелкие и некрасивые образы".
Читать дальше