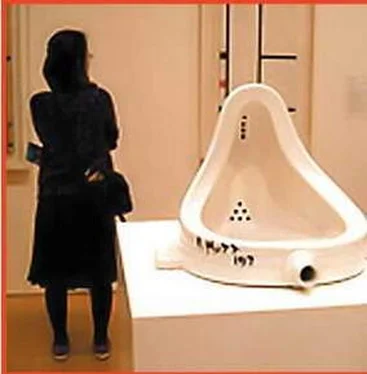Неудивительно, что веретенообразные нейроны стали рассматриваться как признак (и показатель) «очеловечивания», и вот в декабре 2006 года профессор Хоф вдруг сообщает, что точно такие же нейроны имеются в мозгу самых больших китов. Понятно, что газеты тут же запестрели заголовками типа: «У китов есть эмоции!» — ну, а мы позволили себе просто назвать вещи своими именами: и у китов может быть несчастная любовь.
Впрочем, скажем сразу — сам профессор Хоф говорит: «Я не знаю, что такое китовая любовь». По его мнению, наличие этих нейронов может указывать на определенный уровень разумности. Главное же — оно говорит о сходстве двух совершенно разных видов животных — сухопутных и морских. И сходство это уходит в глубину веков: ведь киты отделились от наземных существ не менее 35 миллионов лет тому назад. Может быть, за эти миллионолетия киты тоже приобрели высокую разумность? Ведь о них уже известно, что они могут общаться, что у них есть набор «песен», что они заботятся о своих детенышах и имеют определенную социальную организацию (например, некоторые виды охотятся группами и обнаруживают завидную координацию).
Однако нейролог Кит Кендрик возражает Хофу, предостерегая от поспешных обобщений. «Мы пока не знаем, в чем функция этих нейронов у китов и указывают ли они на их интеллигентность», — говорит он. А, по мнению Альтмана, появление таких нейронов у китов могло быть вызвано необходимостью быстрой передачи информации между отдельными участками очень большого по размерам мозга, но обсуждать конкретную роль этих нейронов в мозгу китов Альтман пока тоже отказывается.

Мы, однако, позволим себе немного размечтаться. Киты ведь принадлежат к тому же классу, что дельфины, а уж о разумности дельфинов столько говорено и написано! Дельфины, например (а также обезьяны и слоны), умеют распознавать себя в зеркале.
Может, и киты умеют, но кто ж это проверит?
Зато известно, что эти самые большие в мире животные способны общаться друг с другом с помощью звуков, вибраций и своеобразных «песен». Известно также, что киты — социальные и «семейно-ориентированные» животные: они охотятся группами, проявляя при этом высокую степень координации, и защищают друг друга в моменты опасности. Так почему бы — при всех этих приметах разумности — им не иметь и эмоции? Тем более что Хоф, как сообщается в его статье, нашел веретнообразные нейроны у китов в двух очень специфических участках мозга — в том, который заведует, так сказать, «безрассудными реакциями», когда решения принимаются быстро на основании сильных эмоциональных сигналов, а также в другом, который у людей (и обезьян) активизируется, когда мы слышим или видим, что кто-то рядом с нами страдает, или же когда мы сами испытываем что-то приятное или неприятное.
Но если так, то, значит, страдания других китов или свое удовольствие- неудовольствие киты, скорее всего, тоже способны ощущать. И такой вывод подтверждается одним любопытным, зафиксированным в истории китобойного промысла наблюдением: в 1990 году моряки наблюдали двух китенышей, несколько дней плававших в одном и том же районе вокруг тела умершей матери, как бы повторяя ее последние движения. Этакий «китовый траур», не правда ли? Тут уж и впрямь не обойтись без веретенообразных нейронов.
Интересно. И про нейроны интересно, и про китов. А всего интересней, пожалуй, что неутомимый профессор Хоф собирается продолжить поиски веретенообразных нейронов. На этот раз у кого бы вы думали? У слонов.
Борис Калашников
Нобелевские парадоксы
Часть II
Нобелевская премия? — Отказываемся!!!
Отец и сын были награждены в один день!
Девяносто девять лет Россия ждет своего лауреата...
Окончание. Начало — в № 10 за этот год.
Великие отказники
Пожалуй, еще более необычны ситуации, когда уже награжденный Нобелевской премией лауреат (подобно Льву Толстому, награды так и не удостоенному) сам от этой премии категорически отказывался. Право же, далеко не каждый человек может представить себе, как по собственной воле отказаться не только от престижнейшей в мире награды, но и от денежной суммы, которая, по сути, была уже «в кармане» и могла бы обеспечить безбедную жизнь и самого лауреата, и, по всей вероятности, многих поколений его потомков. Тем не менее таких случаев было несколько.
Читать дальше