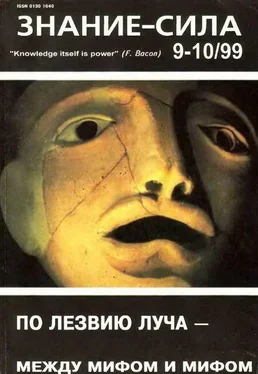Постоянно балансируя на грани разрешенного. Вы не раз загоняли наших высоких цензоров в тупик, предъявляя им в очередном номере журнала нечто неуловимо подозрительное и неприятное неожиданным поворотом мысли, странным столкновением предметов весьма далеких, напряжением внезапно открывающейся глубины. Научно-популярный – слава Богу, не общественно-политический – журнал никогда не играл в чисто политические поддавки; путь ищущей мысли, в поисках своих не признающей твердо установленных границ, был путем к свободе, и это если не понимали, то хотя бы чувствовали все, включая самое высокое начальство.
Один раз Вы все-таки кричали и кричали именно на меня. Кричали, конечно, шепотом. Я собирала деньги на посылки политзаключенным, и Вам об этом донесли. Откричав, что я не имею права рисковать журналом и подставлять наше общее дело. Вы сердито сунули мне деньги – и это был совершенно царский жест.
Говорят, в наше странное и нелегкое время журналу удалось сохранить чувство собственного достоинства. Это Ваше чувство собственного достоинства, потому что и журнал, который мы делаем, – Ваш, Вами выстроенный, собранный, созданный.
Я Вас очень люблю, Нина Сергеевна. Впрочем, как и все, кому посчастливилось работать с Вами.
Ирина Прусс
Вячеслав Глазычев
6 начале семидесятых иные уже понимали, что остаточные следы "оттепели" исчезли, не я этого упорно не желал принимать. Все складывалось отлично. Уже вышла в свет первая книжка / и я не думал, что второй придется ждать семь лет. а третьей – еще шесть. Я даже и не думал о том, что присуждение степени кандидата философских наук беспартийному архитектору могло состояться исключительно по счастливому стечению обстоятельств. Как мне и говорил зав. кафедрой Плехановского, решения их совета проходили ВАК "автоматом". Меня-таки назначили зав.сектором института, где я был не слишком-то обременен руководящими функциями и весело занимался "социальными проблемами советской архитектуры" в приятной компании. Параллельно я заведовал отделом теории журнала "Декоративное искусство" – по тем временам весьма либерти некого. "На полставки" означало пол зарплаты, а не пол работы, но это была приятная работа, и тоже в компании вполне симпатичной.
И еще я успевал, в роли младшего коллеги и спичрайтера, вместе с Евгением Розенблюмом руководить прелестным "заказником": Союзу художников нужна была "галочка" на предмет связи с жизнью, и наша экспериментальная студия арт-дизайна всех устраивала. Кажется, именно в связи с какой-то из наших выставок на меня набрела молоденькая корреспондентка из "МК" Ира Прусс. Она пришла брать у меня интервью, но кончилось тем, что неосторожно заказала мне статью. Что я там написал, не помню напрочь, но через пару месяцев Ирина мне позвонила – сказать, что перебралась в редакцию "Знание – сила" (в просторечье – "силков") и перетащила рукопись статьи туда, и что вообще статью можно бы и переписать попросторнее. Это было раз плюнуть, и по тогдашнему своему легкомыслию не утруднившись хотя бы полистать журнал, я что-то там прописал и явился по искомому адресу.
Искомый адрес оказался подвалом девятиэтажки в 1-м Волконском переулке, на задах Самотечной площади. Я привык к редакции "ДИ", занимавшей верхний этаж по Тверской, напротив Центрального телеграфа. Там было очень светло, вокруг большущего круглого стола всегда толокся художественный народ, включая еще не вполне великого Зураба Церетели, по стенам всегда свисали труды разного рода живописцев и прикладников. Здесь надо было втягивать голову в плечи, чтобы не влететь лбом в какую-то толстую трубу, было темновато, душновато, и разговоры велись на тон ниже. Значит – стиль такой. Статью мою, оказывается, уже набрали, и я был отведен пред очи Нины Сергевны, каковая показалась мне поначалу дамой немногословной и едва ли не застенчивой. По произнесении ритуального "Пишите нам еще" я был препровожден в довольно обширную и несколько более притемненную комнату – "к художникам".
И тут приятная неожиданность: в роли главного художника журнала подвизался мой старый знакомый, Юрий Соболев, в 65-м году макетировавший мое сочинение о фирме "Оливетти" для журнала "ДИ". Помнится, тогда Юрий Александрович делил мастерскую с Юле Соостером. Я не вполне разобрался тогда, что было чьей живописью, но общий настрой метафизического сюрреализма был вполне внятен, тем более что мастерская помещалась в подвале по соседству с лабораторией Института судебной медицины, и собаки подвывали за стеной весьма выразительно. Потом я разок наткнулся на Соболева во время третьего фестиваля джаза, что был со скрипом разрешен в кинотеатре "Ударник" и был событием для Москвы более чем выдающимся.
Читать дальше