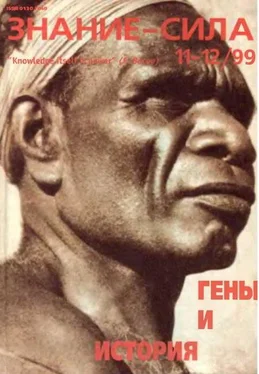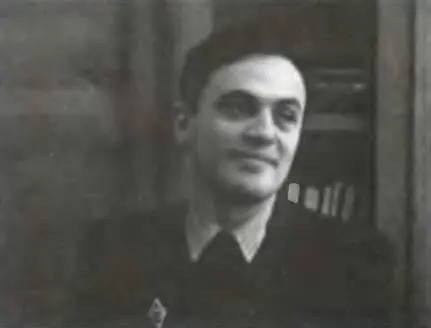Если в докладе Н.Н.Мазур речь шла об общих принципах государственной идеологии, то доклад О.В.Эдельман «Эпизод из биографии Д.В.Давыдова» был посвящен случаю частному, но в высшей степени характерному и выразительному. Содержание своего выступления О.В.Эде-льман резюмировала так: о том, как армейское начальство пыталось сделать из шести полковников трех генералов – и вконец среди них запуталось.
«Эпизод из биографии», упомянутый в заглавии, заключался в следующем: в январе 1814 года «поэту-партизану» Денису Давыдову объявили о производстве его в генерал-майоры, но уже к осени сообщили, что чин присвоен ему ошибочно и что надлежит ему оставаться полковником. Давыдов естественно, возмутился таким поворотом дел, стал хлопотать, призвал на помощь влиятельных друзей – и наконец (но лишь в декабре 1815 года) добился возвращения ему генеральского звания.
В советской историографии было принято объяснять этот эпизод неприязнью, которую испытывал император Александр к вольнолюбивому Давыдову. Дореволюционные же историки объясняли случившееся причинами куда более прагматическими – путаницей, вследствие которой Дениса Давыдова перепутали с его кузеном, тоже Давыдовым.
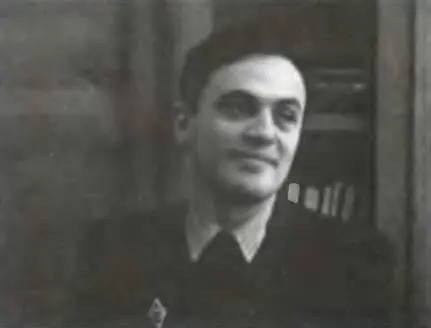
С помощью архивных материалов, хранящихся в Российском государственном военно-историческом архиве, О.В.Эдельман реконструировала, как именно это произошло. Все дело в том, что тогдашнее делопроизводство не требовало указания инициалов; между тем в описываемый период в русской армии служили одновременно шесть полковников Давыдовых, причем все – в кавалерии. Обычно однофамильцам присваивали номера (Давыдов-первый, Давыдов-второй и прочее), но в данном случае это сделано не было. В результате Александр Львович Давыдов, представленный к генеральству, его не получил, так как в это же время генералом был сделан Евграф Владимирович Давыдов, и начальство не дало хода его бумагам, сочтя, что Давыдов уже генерал, хотя генералом стал не Александр Львович, а его однофамилец. Александр же Львович, хорошо зная, что он генеральства еще не получил, начал жаловаться и хлопотать, чем поставил начальство перед необходимостью разбираться, какой из Давыдовых был ранен в руку, а какой – в ногу, и кто уже стал генералом, а кто еще только этого ждет.
Плодом этих разбирательств стала хранящаяся в архиве бумага под названием «Счет Давыдовым», в которой переписаны все шестеро Давыдовых. Когда же наконец и Денис Давыдов в свой черед был представлен к генеральству, начальство, увидев в списках очередного Давыдова, сочло, что речь идет об уже проясненной коллизии с производством А.Л.Давыдова, и Дениса Васильевича вычеркнули. Впрочем, в конечном счете Д.В.Давыдову повезло все-таки больше, чем А.Л., – если первый все-таки отвоевал свое генеральство, тс второй, так ничего и не добившись, подал в отставку в чине полковника. Кстати, идентификация Давыдовых ставила в тупик не только старинное армейское начальство: трудности возникли и у современных искусствоведов, которые так до сих пор и не сумели выяснить, какой именно из Давыдовых изображен на знаменитом портрете работы О.Кипренского.
А.Н. Архангельский в докладе «Стихотворение М.Н.Муравьева «Богине Невы» и «Евгений Онегин»», отталкиваясь от общеизвестного факта – присутствия в первой главе «Евгения Онегина» реминисценции из М.Н.Муравьева, – показал, что муравьевские образы и мотивы не ограничиваются знаменитыми строками из строфы XLVIII («С душою полной сожалений, И опершися о гранит. Стоял задумчиво Евгений, Как описал себя пиит») и обнаруживаются в других главах (так, «муравьевское» слово «пиит» присутствует в четвертой главе «Евгения Онегина»). Иначе говоря, собственная стихотворная энергия Пушкина развивается, отталкиваясь от муравьевского источника. Если образы Муравьева присутствуют в «Евгении Онегине», то размер стихотворения «Богине Невы» отозвался в пушкинском «Пире Петра Великого».
Д.П.Бак в докладе «И.С.Тургенев и «русский Берлин» конца 1830-х годов» проанализировал бытовое поведение и умонастроения русских молодых людей, которые жили и учились в Берлине в 1837- 1840 годах. Все эти молодые люди искали в Берлине не карьеры, а прямого общения с «Егором Федоровичем» (Гегелем), точнее, с его учениками (самого философа к этому времени уже не было в живых). Они ехали постигать «науку логики», и та рефлексия, которой они учились у гегельянцев, распространялась на самые мелкие, «бытовые» подробности их жизни. Эти формы бытового общения московских юношей, усвоенные ими в Берлине, остались бы запечатленными лишь в их частной переписке, если бы не И.С.Тургенев, который стал посредником между берлинской жизнью московских студентов и литературой; благодаря Тургеневу образ жизни и мыслей этих молодых людей через некоторое время вернулся в литературу текстами – такими, например, как роман «Рудин».
Читать дальше