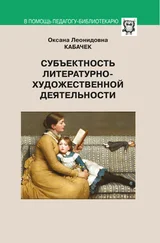Тогда сюжет становится узнаваемым и понятным!
Прямо-таки архетипическая реальность, отражаемая, следовательно, во многих произведениях и многих жанрах.
Например, в жанре народной волшебной сказки. В «Крошечке-Хаврошечке» корова — единственная подружка у забитой мачехой сироты:
«— Коровушка-матушка! Меня бьют-журят, хлеба не дают, плакать не велят».
(«Не велят» — поэтому и наша героиня не плачет после пощечины, а продолжает работать.)
В сказке корова-волшебница часть трудной работы делает вместо Хаврошечки; в жизни сирота сама справляется с трудными заданиями — и тоже благодаря подружке-корове: ее ласке, дающей силы. Мачеха (или злая свекровь) смириться с тем, что после дойки забитая сиротка хоть на время распрямляется, естественно, не может.
Но именно в сказке (и только в ней) есть столько ожидаемая нами опора на чудо, на вмешательство высших сил. Похороненная волшебная корова превращается в волшебную яблоню: «Подошла Хаврошечка — веточки к ней приклонились, и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лиха не знать». (Не знатный и не богатый человек нужен сиротке, но «сильный», т. е. способный ее защитить от злых людей — например, от агрессивной свекрови.)
Итак, в рассматриваемом примере смертной колыбельной зафиксированы несколько пластов психического, взаимодействующих между собой: 1) реалистическое восприятие безысходной ситуации в семье (того, что злой свекрови «хворый» внук от нелюбимой невестки не нужен, и что сила всегда на ее стороне); 2) поиск выхода в воображении, в мечтах: выздоровление больного ребенка и принятие его социумом; 3) переход поющей с позиции смирения перед грубой силой на позицию тайного сопротивления (песня о смерти ребенка — понарошку, для отвода глаз) — благодаря страстному желанию и вере в его выздоровление.
* * *
Интересно было посмотреть (уже на другой смертной колыбельной), изменится ли смысл песни, если ее петь с другим произношением (например, не северным окающим и цокающим, а московским). Для окончательного вывода нужна большая статистика, единичный случай свидетельствует, что код песни, т. е. ее субъективный смысл для поющей женщины, инвариантен — не меняется.
Надо помнить, что благодаря «зеркальному» эффекту, все описанные выше переживания матери в той или иной степени оказываются доступны и младенцу. Порадуемся, что эти песни ушли в прошлое.
Заклички, потешки, считалки и другие старожилы 3 и 4 полей
Как стать повелителем? — Научиться говорить кратко: бросать толпе команды. Родители, поэты, пиарщики и политики это хорошо знают и используют. Вот почему магу (хозяину 4, молчащего, поля) не нужны дополнительные средства устрашения («адские» свистяще-шипящие звуки) или средства гармонизации-усыпления («райские» музыкальные звуки): он просто регулирует длину строки сообщения в нужном ему направлении.
Как из шуточного ругательства «Чтоб ты сдох(ла)!» (код 3, 3) сделать настоящее заклинание, т. е. трансформировать его код в 4, 4? А всего лишь разбить по словам — разнести по 1 слову на каждую строчку: «Чтоб! / Ты! / Сдох(ла)!»
Корни магии коротких строчек надо искать в детском фольклоре: потешках, закличках и др. Манипуляции с телом ребенка с приговариванием потешек, требуют именно коротких строчек. Нежные команды благодаря «зеркальному» эффекту превращаются в самокоманды — управлением своим телом. Эта ранняя матрица и оказывается успешно задействованной в пиаре (слоганы), поэзии («лесенка») и политике (выкрики оратора).
Жанры закличек и смертных колыбельных древнейшие в группе; имеют 1 шаг маршрута, а не 2. Закличкив 1-ой, «социальной», позиции в отличие и от качественных, и от графоманских частушек,равно как от считалок, дразнилок, колыбельныхи вообще суммы остальных обращенных непосредственно к слушателю жанров фольклора, ограничиваются манипулятивно-игровыми 3, 4 и 3–4 полями (в то время как остальные лишь тяготеют к этим полям). Во 2-ой, «внутренней», позиции заклички(обращение к силам природы) еще реже дразнилок(обращение к людям) предпочитают «ответственное» 2 поле; тогда как от считалокони в этом отношении не отличаются. (Кстати, считалкитоже жанр древний: «появились благодаря ритуально-бытовой практике. Обычай ритуального пересчитывания предметов известен у большинства первобытных народов. Во время счета выделялись счастливые и несчастливые числа, результат счета хранился в тайне» [65]).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
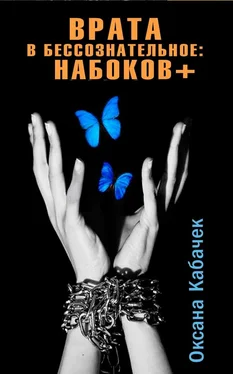
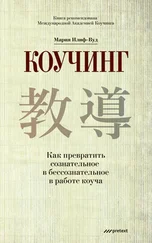
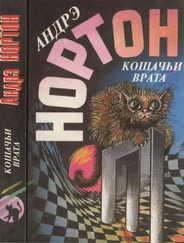





![Карл Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное [litres]](/books/398004/karl-yung-arhetipy-i-kollektivnoe-bessoznatelnoe-thumb.webp)