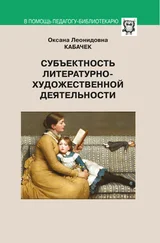А вот их внешнее сходство с садистскими стишкамимнимое: в 1-ой, «социальной», позиции те чаще бывают в полях, связанных с 3-кой, а смертные колыбельные, наоборот, чаще опираются на остальные поля, «необманные». Разница особенно заметна во 2-ой, «внутренней», позиции: все садистские стишки опираются только на 2, «сознательное» поле, тогда как смертные колыбельные предпочитают другие поля. (Садистские стишки отличаются этим и от похожего жанра небылиц, предпочитающих все другие поля «внутренней» позиции 2-ому полю). В 1-ой, «социальной», позиции садистскиестихи прямо-таки кричат слушателям: «Мы просто шутим, не бойтесь!», опираясь чаще всего на поля, связанные с 3-кой — игрой и обманом (в отличие от древних фольклорных жанров потешек, смертных колыбельныхи всех небылиц, которые, напротив, стараются опираться на другие, «правдивые», поля).
Небылицы — правдивы? В каком смысле? Об этом поговорим в своем месте.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на Таблицу № 11, — это то, что архаичный фольклор (№№ 1–7) не имеет самой высшей, 6, стадии субъектности в отличие от «рассудочного» архаичного фольклора (№№ 8,9) и тем более других групп жанров. По коэффициенту субъектности KS (доли высших стадий, т. е. опирающихся на семантические поля, связанные с 2-кой) пословицы и скороговорки (подгруппа 1б) ближе всего к классическим небылицам и потешкам, а выпадает из подгруппы 1а именно экзистенциальный, пограничный между жизнью и смертью жанр смертных колыбельных, показатель субъектности которых необычайно высок и идентичен аналогичному показателю садистских стишковиз 2 группы, прозаических миниатюр И. С. Тургенева, прозы Д. Хармса, дневниковых записейи обычной (неполитической) информации в интернетеиз группы 3а.
Таким образом, смертные колыбельные резко отличаются от колыбельных обычных. Во время выбора варианта смертной колыбельнойи в момент пропевания его происходит решение матерью очень важных вопросов, и ответственность и осознание здесь нужны больше, чем в развлекательно-развивающих фольклорных жанрах, ориентированных только на жизнь. Поэтому древнейший фольклорный жанр уподобляется более поздним авторским произведениям и специфическому, тоже связанному со смертью, фольклору последней трети XX века.
И неожиданный вопрос про центральное поле 1,2,3,4, свойственное именно жанру смертных колыбельных: не опираясь ли на вечность, мать принимает позитивное решение? Хаос чувств — на поверхности (для наблюдателя), предельная концентрация психики, измененное состояние сознания, экзистенциальное мироощущение — в глубине?
Пребывание в вечности как возможность, а не данность! Попытка спасительного прикосновения к горнему миру — выполняемое с душой, а не формально, привычное действие — молитва. Ибо кто же еще поможет несчастной матери, часто одной противостоящей социуму, призывающему смерть дитяти, как не Богородица-заступница?
После рождения прежде желанного семьей ребенка жизненные обстоятельства могли измениться в худшую сторону: забрали в армию по жребию мужа-кормильца, неурожай или стихийные бедствия, негативно отразились на достатке крестьянской семьи, заболевание матери или родившегося дитяти и т. п.
Вот и стал ребенок нежеланным для родни.
Но не для матери, его выносившей.
Если мать имела возможность выбирать песню из разных вариантов, она предпочитала петь ту, которая была ближе ее состоянию и, главное, ее нравственному выбору?
Или сама песня вела женщину, подспудно толкала к тому или иному решению?
Итак, 4 варианта колыбельных (см. Таблицу № 12):
1) №№ 1–5 — для тех (про тех), кто поддался внушению общины и решил, что ребенку надо умереть. Плата за это — внутренний конфликт, душевный хаос (№№ 1–4), либо придурковатая мечтательность и забвение (№ 5);
2) магия смешана со сном — вера, что не столько своей волей, сколько волей Проведения ситуация как-нибудь «рассосется» (№ 6). Результат — переход через сновидческое, пассивное, объектное состояние (не путать с «полусонным»!) из области магии в область обыденной реальности, отсутствие психологического кризиса;
3) №№ 7–9 — «обманка»: песня поется не для ребенка, а для злых духов с целью их обмана, чтобы они отстали от младенца. (А, может быть, и для безжалостной, слишком практичной крестьянской общины?) Плата за такой нравственный выбор — переход в более (№ 9) или менее (№№ 7–8) сознательное состояние;
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
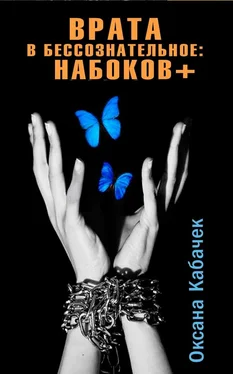
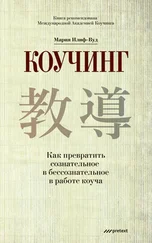
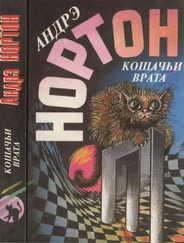





![Карл Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное [litres]](/books/398004/karl-yung-arhetipy-i-kollektivnoe-bessoznatelnoe-thumb.webp)