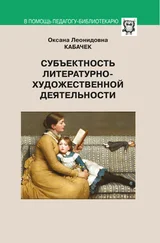Жанр скороговороквыделяется: полное избегание 4 поля в 1-ой, «социальной», позиции, в отличие от остального фольклора (см. Таблицу № 10б). По предпочтению полей, связанных с «игровой» 3-кой, в этой же, «социальной», позиции они похожи на садистские стишки. Скороговорка — это игровое принуждение к произнесению трудных звукосочетаний без ошибок: в отличие от остального фольклора скороговорки предпочитают промежуточное поле 3–4 (игрок-манипулятор) всем другим полям.
В скороговорке нет второго плана; нет глубокой, сложной информации, поэтому вторая, «внутренняя», инстанция не нужна. Преобладают однотипные коды, т. е. отсутствие перемещения слушателя в семантическом поле при повторе; во всех остальных жанрах, напротив, преобладает такое перемещение. (Главное, что происходит при перечитывании (повторе) — вычерпывание смыслов. При повторении же скороговорки слушателям не открывается (и не осваивается) новая реальность. Этот жанр очень рассудочен, это кладезь псевдосентенций ).
Скороговорки избегают 3 стадии — перехода с одного архаического поля на другое (см. Таблицу № 11). Возможно потому, что это отвлекло бы от основной задачи: быстро и четко произнести звукосочетания? Нет стадии 3, мало 2 и 4 (см. Таблицу № 11) т. к. почти нет работы с содержанием — только со звуками.
А пословицыне любят промежуточных полей, которые тоже содержат проблему для слушателя — усложнение, удвоение семантики основных полей, т. е. появление нюансов (4 стадия субъектности). Нюансы хороши в авторской поэзии (проверим эту гипотезу в соответствующем месте).
В отличие от остального архаического фольклора подгрупп 1а и 1б, скороговоркине бывают длинных, в 3–4 шага, маршрутов (см. Таблицу № 13). Их соседи по подгруппе 1б (рассудочного архаического фольклора) — пословицытакже тяготеют к коротким маршрутам: 0 маршрут у них встречается чаще прочих, тогда как весь остальной архаический фольклор, напротив, чаще имеет маршрут длиной 1–4 шага. (Напомним здесь, что все корреляции в нашем исследовании подсчитывались по формуле К. Пирсона.)
Интересно сравнить пословицы с 0 шагов и с максимальным маршрутом. Последние однотипны по коду (4, 2) и похожи по содержанию (см. Таблицу № 14), а первые разнообразны. Обращают на себя внимание группы с кодом 3, 3 (выражают «обывательское» мировидение), а также уже упоминавшиеся 1, 1. Это «лихачи-самовольщики», бросающие вызов странноватой реальности семантического поля 1, которая не зависит от их деятельности и из которой они, как из клетки, вырваться не могут. Для взрослых (не младенцев) это нередко мучительная ситуация — быть объектом. Их вызов похож на проявления известного кризиса трех лет с говорящим, нет, кричащим названием «Я сам!».
Именно эта реакция бунтарей позволила уточнить сущность мира, описываемого 1 семантическим полем. Это мир Утопии! Мир, максимально завершенный и однозначный в своем совершенстве [154;20]. В отличие от динамизма миров смеховой культуры [81;38] (т. е., в первую очередь, 3 семантического поля), ни один утопист не изображает изобретенный им мир как переходный или временный [154;158].
Содержание мира утопии — ритуализированные действия, то, «что является правилом в вымышленной стране» [154;20–21]. И так как система совершенна, любое изменение будет изменением к худшему [154;151]. Надо «упразднить любые отчуждения, как социальные, так и эстетические, и создать сакральное Райское пространство, где были бы забыты негативные категории, различия и условности. Осуществление этого авангардистского проекта требовало огромного репрессивного ресурса (в социальной практике, в идеологии, в языке), который должен был удерживаться вне пределов сознания. Поскольку любое исследование (и даже обнаружение) негативных категорий в „райском“ мире запрещалось как диссидентское» [35;165].
Но авангардистский ли это проект? «Суть европейского модерна, идущего от Нового времени, помимо идей эмансипации человека, просвещения и права, содержала еще и программу тотального проекта, устанавливающего единственно правильное жизнеустройство, будь то архитектура среды, социума и самого сознания. Здесь ключевое слово — построить. Построить идеальный город, идеальное общество — и „построить“ людей. ‹…› Тотальный проект, реализовав себя в градостроительстве и архитектуре, показал все прелести жизни в макете, реализованном в натуральную величину. ‹…›
Запад пошел по пути сепарирования светлой и темной сторон модерна — путем более последовательной реализации идеи права и эмансипации личности в целях защиты от темной стороны того же модерна — от профетического и силового навязывания идеальных моделей, в том числе человеконенавистническими средствами. Это был отказ от жесткости и жестокости нормы в пользу лояльного отношения ко всему „неправильному“ и „аномальному“ ‹…› В экстремальных формах эту аномию культивировал постмодернизм как активная, боевая фракция постмодерна» [126].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
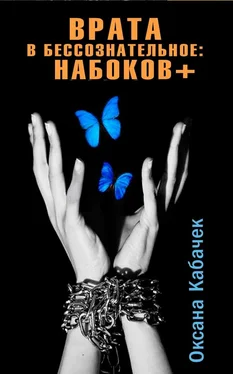
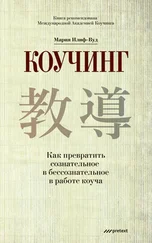
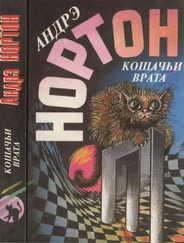





![Карл Юнг - Архетипы и коллективное бессознательное [litres]](/books/398004/karl-yung-arhetipy-i-kollektivnoe-bessoznatelnoe-thumb.webp)